
Бесплатный фрагмент - Детство, раненное войной
Воспоминания ветеранов-журналистов
Детство, раненное войной
Воспоминания пермских журналистов, чьи детские годы пришлись на Великую Отечественную
Пермь 2019
Издание подготовлено по инициативе
Совета ветеранов Пермского отделения Союза журналистов РФ
Составители КУЗНЕЦОВА Н.А., ВЛАДЫКИН П.В.
Редактор ЗЕБЗЕЕВА А.Г.
© Авторы текстов, 2019 г.
«…Да, наше детство вместило в себя жизнь от начала Великой Отечественной войны до ее окончания, до Победы. И этим оно уже необыкновенно».
«Война не делала для детей исключений. Она обрушилась на них со всей своей жестокостью. Вместе с взрослыми дети голодали, мерзли, страдали, умирали. И это самая страшная жестокость войны — страдающие, гибнущие дети…»
«Для детей войны это были страшные, голодные и холодные годы. Память об этом не исчезла. Отчетливо помнится каждый день…»
«…Всё имеет свою ценность. Воспоминания о раннем детстве, пришедшемся на войну, — еще одно свидетельство ее жестокости к каждой семье, к каждой человеческой жизни. Это и свидетельство того, как в нужде и тяготах оберегали нас от бед наши мужественные молодые мамы, тогда как мы-то оставались просто детьми, со своими детскими радостями и глупостями. Это возможность еще раз поклониться им вслед».
«…Спустя годы, познав мирную жизнь, вырастив своих детей и внуков, наблюдая их детство, мы видим, как многого были лишены, в какие скудные и тревожные краски война окрасила наше детство».
«…Многое помнится из детства — горького и колючего. Такое оно было, военное и послевоенное время. Когда вспоминаешь о нем, начинает больно жечь душу».
«Наплакался, пока писал эти воспоминания…»
«Да, мы, дети войны, были частью большого народа…»
Фаат Ахметгалеев: Мой брат — ровесник Победы
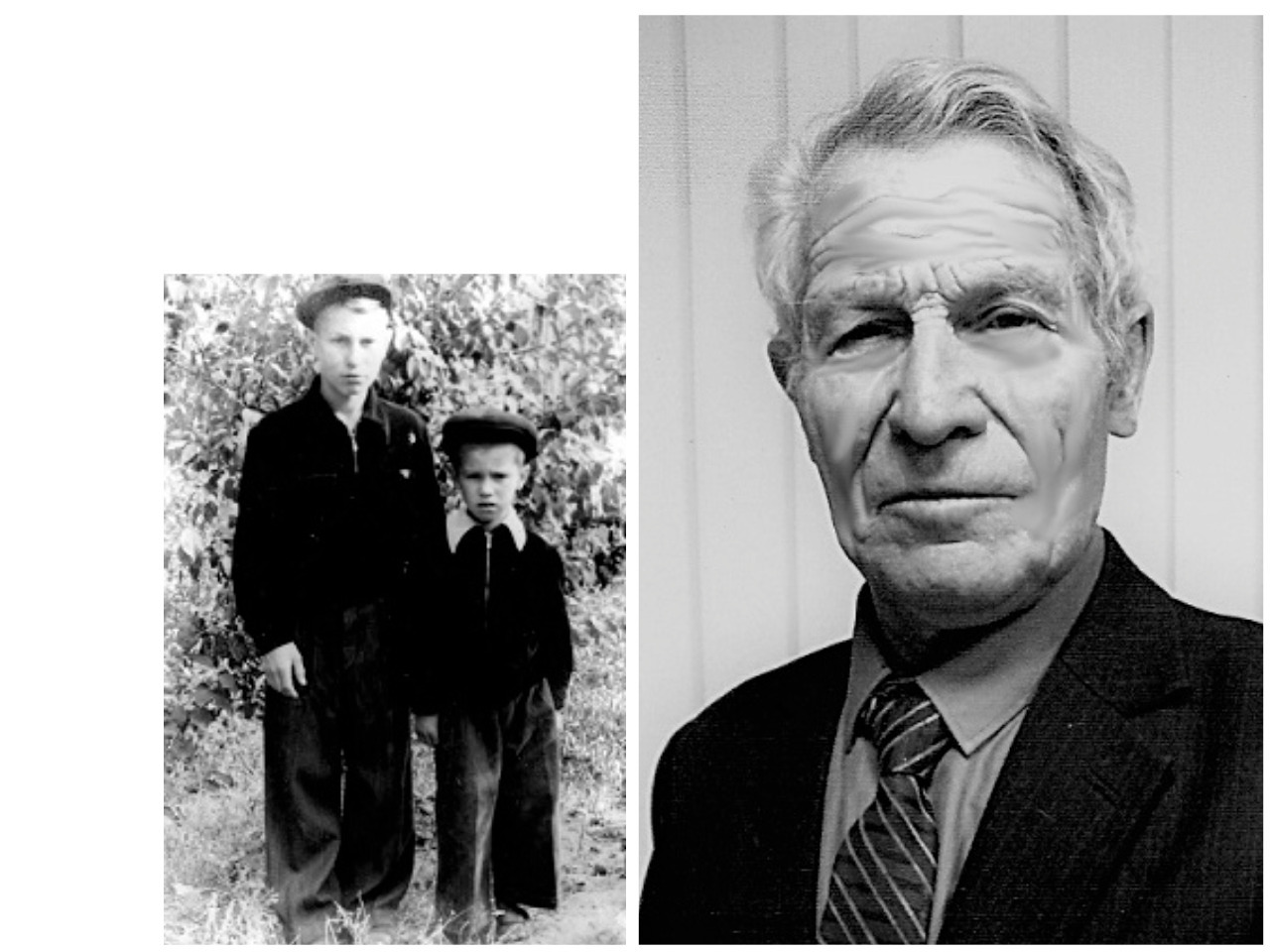
Когда началась война, я был совсем маленький и, конечно, помню мало что. Отец очень рано уходил на работу — я спал. А возвращался очень поздно — я уже снова спал. Поэтому в дни войны я его совсем мало видел.
Работал он на заводе имени Ф. Э. Дзержинского слесарем-сборщиком станков. Тогда завод именовался просто «почтовым ящиком» под номером таким-то. Выпускал взрыватели для артиллерийских снарядов. Завод работал круглосуточно и постоянно наращивал производство. А для этого нужны были станки. Ждать их было неоткуда, и поэтому завод производил их сам. Был специальный станкостроительный цех, где и работал мой отец.
За годы войны были выпущены сотни и сотни станков. Это помогло значительно увеличить выпуск боеприпасов. Ведь каждый третий артиллерийский снаряд в армии был оснащен взрывателями завода имени Ф. Э. Дзержинского. Тут есть заслуга и моего отца. За добросовестный труд он был награжден правительственными наградами и почетными грамотами.
Мать моя в годы войны тоже трудилась для фронта. Она работала швеей на фабрике «Пермодежда». Шила телогрейки и шинели для солдат Красной Армии.
Родители занимались мною в основном в редкие выходные дни. Всё остальное время я проводил со своей бабушкой. Я ее очень любил. Эту любовь я сохранил в себе и потом, когда стал взрослым человеком.
Конец войны запомнился тем, что когда по радио объявили о победе над фашистской Германией, все соседи высыпали на улицу и начали кричать:
— Победа! Победа!
А в мае, в конце месяца, родился в нашей семье ребенок. Мой брат — ровесник Победы.
Юрий Болотов: Из жизни тылового города
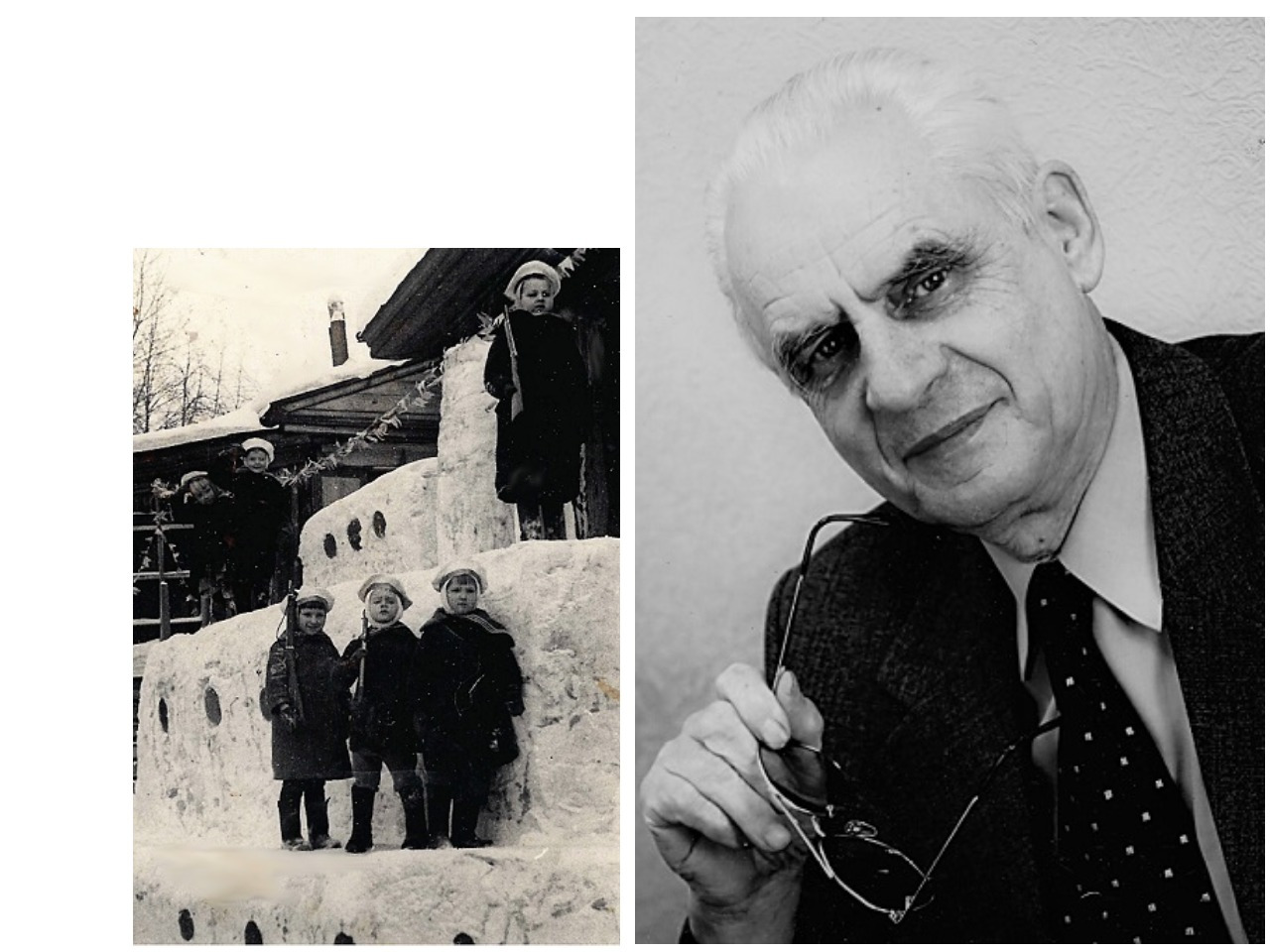
О том, что началась война, мама узнала от меня. Наша улица с труднопроизносимым названием — Индустриализации, — по которой в этот воскресный день я с мамой шел в цирк, считалась в Рабочем поселке центральной. На полпути побежал я на угол скверика, где обычно продавали мороженое. Но лотка на привычном месте не было, всю площадку перед сквериком заполнили люди. Запрокинув головы, они с тревогой на лицах слушали радио. Я, позабыв о мороженом, вернулся к маме.
Первым из нашего дома повестку получил Георгий Абрамович Арамилев. Дядя Горя, как я его называл. В последний свой вечер дома дядя Горя возился у крыльца с велосипедом: что-то подтягивал, смазывал — словно собирался с ним идти на войну. Закончив работу, кивнул мне: «Садись».
Я бочком взгромоздился на раму.
Приехали мы на край аэродрома, где еще сохранились редкие елочки. Внизу, у крутого спуска, где текла Егошиха, раздавались выстрелы: солдаты их Красных казарм вели учебную стрельбу. Дядя Горя то стоял, охватывая взглядом панораму города, то в задумчивости мерил шагами поляну. Может, думал о жизни — что останется за порогом его дома, или той, начинавшейся завтра.
Арамилевы — мать, жена и сестра — получили от дяди Гори лишь одно письмо, написанное торопливой рукой: мол, скоро прибудем на место назначения. Дальнейшая его судьба уместилась в несколько строк пермской Книги Памяти: «Арамилев Георгий Абрамович, д. Арамили Ильинского р-на. Призван Мотовилихинским РВК. Рядовой 172-го стрелкового полка. Пропал без вести».
На плитах мемориала Мотовилихинского завода значится его имя.
В конце лета в город стали прибывать первые эшелоны с эвакуированными. Принесенных войной людей приютила и наша улица. Их селили в подвалах трёхэтажек. Семьи отгораживались друг от друга развешанными простынями. Часть людей подселяли в квартиры. Так в обиходе появилось понятие «уплотнение». Два военных года я провел в детском саду. Это время мне запомнилось двумя событиями. Неподалеку, в школе №48, находился госпиталь. Сюда и направили нашу «концертную бригаду». Поначалу госпитальная обстановка подействовала на нас угнетающе: непривычный запах, забинтованные люди, доносящиеся из палат стоны… Мы невольно жались к воспитательнице Раисе Борисовне, как цыплята к наседке. Но, освоившись, стали декламировать стихи, петь незатейливые песни. Раненые улыбались, не жалея ладоней,
О другом событии напоминает единственный военных лет снимок. В канун 25-летнего юбилея Красной Армии работники завода из снега слепили рядом с нашим детсадом корабль. Двухпалубный, с иллюминаторами из цветного льда, с флажками расцвечивания. На снимке — группа детсадовцев «матросов». На головах, укутанных платками, бескозырки, в руках — деревянные ружья.
И сегодня узнаю некоторых: рядом со мной однофамилица Люба и Леля Жебелева, на верхней «палубе» Виталик Думкин. С доцентом Пермского университета Виталием Думкиным наши пути пересекутся 35 лет спустя, когда я для газеты буду делать материал о его годичной командировке в Алжир.
А вот другой наш детсадовец Женя Крыласов, став на путь творчества, заменил одну букву в фамилии. Он получил всесоюзную известность. Сегодня Евгений Павлович Крылатов — замечательный композитор, автор многих популярных песен.
В годы войны я учился в школе №49. Серафима Михайловна Губина, наша учительница, объявила, что в школе начался сбор подарков для фронта. Мои одноклассники приносили все, что могло пригодиться бойцу: домашней вязки носки и перчатки, пачки махорки, бритвенные приборы… Я с подарком никак не мог определиться, и мне казалось, что Серафима Михайловна осуждающе смотрит на меня сквозь толстые стекла очков.
Мама работала крановщицей в горячем 32-м цехе Мотовилихинского завода. Узнав, что меня заботит, она вместо того, чтобы поспать перед ночной сменой, несколько часов перебирала вещи в ящиках комода. Наконец вытащила бордовую пилотку, которую я носил до войны. Такие во время гражданской войны в Испании носили бойцы интернациональных бригад, и потому их называли «испанками».
Засыпал я под стрекот швейной машинки. А утром на столе лежал кисет, сшитый мамой из испанки. На нем сохранились вышитые на одной стороне звезда, на другой — серп и молот.
Хлебный магазин размещался в полуподвале жилого дома. Пока продавщица вырезала из моих карточек талоны и наклеивала их на бумажный лист, я буквально поедал глазами ряды буханок. От теплого, обволакивающего хлебного духа сосало под ложечкой.
Покинув детсад с его трехразовой кормежкой, я засыпал и просыпался с мыслями о еде. Утром, перед школой, съедал кусочек хлеба и выпивал стакан слегка подслащенного сахарином кипятку. Вместо заварки — измельченная, пережаренная морковь. Иногда кипяток окрашивали так называемым фруктовым чаем. Он представлял собой смоляной черноты брикеты, спрессованные из фруктовых отходов. Мы, дети, иногда жевали эту обжигающую горечью смесь, чтобы заглушить чувство голода. Помогал забыть на время о еде и твердый, как камень, подсолнечный жмых (он получался при отжиме масла). Его можно было долго держать за щекой. По пути домой из школы я часто забегал к деду Александру, который работал сторожем на фабрике-кухне. В послевоенное время она была преобразована в ресторан «Горный хрусталь». Бывало, сижу в тесной будке-сторожке, жадно, почти не разжевывая, ем припасенный для меня дедом чибрик — пирожок без начинки, и запиваю его горячим суфле. Этот тягучий, отдающий патокой напиток готовили на фабрике-кухне. Разомлев от тепла и еды, наблюдаю, как дед, свернув самокрутку, прикуривает. Прижав к нитяному труту кремень, он обломком плоского напильника высекает искру. Затем, подув на задымившийся трут, прикуривает цигарку. Фраза «экономить на спичках» в годы всеобщего дефицита отражала вынужденную необходимость.
Однажды, когда я шел от деда, мимо протрусила лошадка с баком суфле на санях. На повороте, у заводской поликлиники, сани попали в глубокую ледяную колею, их занесло, и бак опрокинулся. Возница растерянно ходил вокруг и смотрел, как колея заполняется суфле. Тотчас к месту происшествия сбежались люди из ближних домов и стали котелками, ковшами, кастрюлями черпать исходящий паром напиток.
Ожидая маму из первой смены, сижу на лестнице, сбегающей к центральной проходной завода. Внизу, на путях, лязгнув, остановился состав. На платформах — искореженные и сожженные немецкие танки. Груда металлолома, прибывшего на переплавку. А вот не тронутые огнём и снарядами вражеские танки и другую технику я видел в документальном фильме «Разгром немецко-фашистских войск по Москвой» Коллективный просмотр этой ленты был организован в школе.
И немцев видел неэкранных. Мимо школы по утрам проходила колонна пленных. Они жили на Балмошной, откуда их вели к месту работы. Их руками был построен жилой квартал рядом с улицей Братьев Вагановых. Строительная площадка была обнесена забором с автоматчиками на вышках.
…Возвращает меня к действительности рев гудка. Через несколько минут из проходной стал выходить рабочий люд. Заводчане устало, молчаливо, с осунувшимися лицами подымались по лестнице. Мой взгляд остановился на пожилом рабочем: он, держась за перила, останавливался почти на каждой ступеньке. Видимо, каждый шаг давался ему с трудом. Поднявшись на площадку, он тяжело опустился на скамью. И тут же боком стал заваливаться, затем затих. Женщины заохали, запричитали. Кто-то наклонился к неподвижно лежащему мужчине: «Ему уже ничем не поможешь…»
Порождением времени был «хитрый рынок». Сначала народ кучковался во дворе магазина №3 — «третьего», как его обычно называли. Затем сместился к соседним домам. И, наконец, задержался на пустыре перед заводским стадионом. Возвращаясь из школы, мы часто бродили по рынку, глазели на торговлю. Здесь можно было купить-продать хлеб и водку, домашнюю снедь и керосин для примусов и керогазов, американский колбасный фарш в красочных плоских жестянках… Нас же интересовали петушки на палочках и молочные ириски, явно не фабричного изготовления. В первый день мира я оказался там же, где впервые услышал слово «война». Из громкоговорителя лилась бодрая музыка, раздавался торжественный голос Левитана. Здесь собрался народ чуть не всего Рабочего поселка. Незнакомые люди обнимались, поздравляли друг друга. Пожилая женщина с бидоном и кружкой угощала военных бражкой: «С победой, сынок!»
Скверик заполнили, сбежав из госпиталя, ходячие раненые в байковых куртках и халатах, в щеголевато сложенных из газет шапочках, некоторые с костылями и тросточками.
Проникаясь атмосферой всеобщего ликования, я не осознавал, что в первый день мира заканчивалось мое военное детство.
Леонид Брагин: Обелиск у дороги
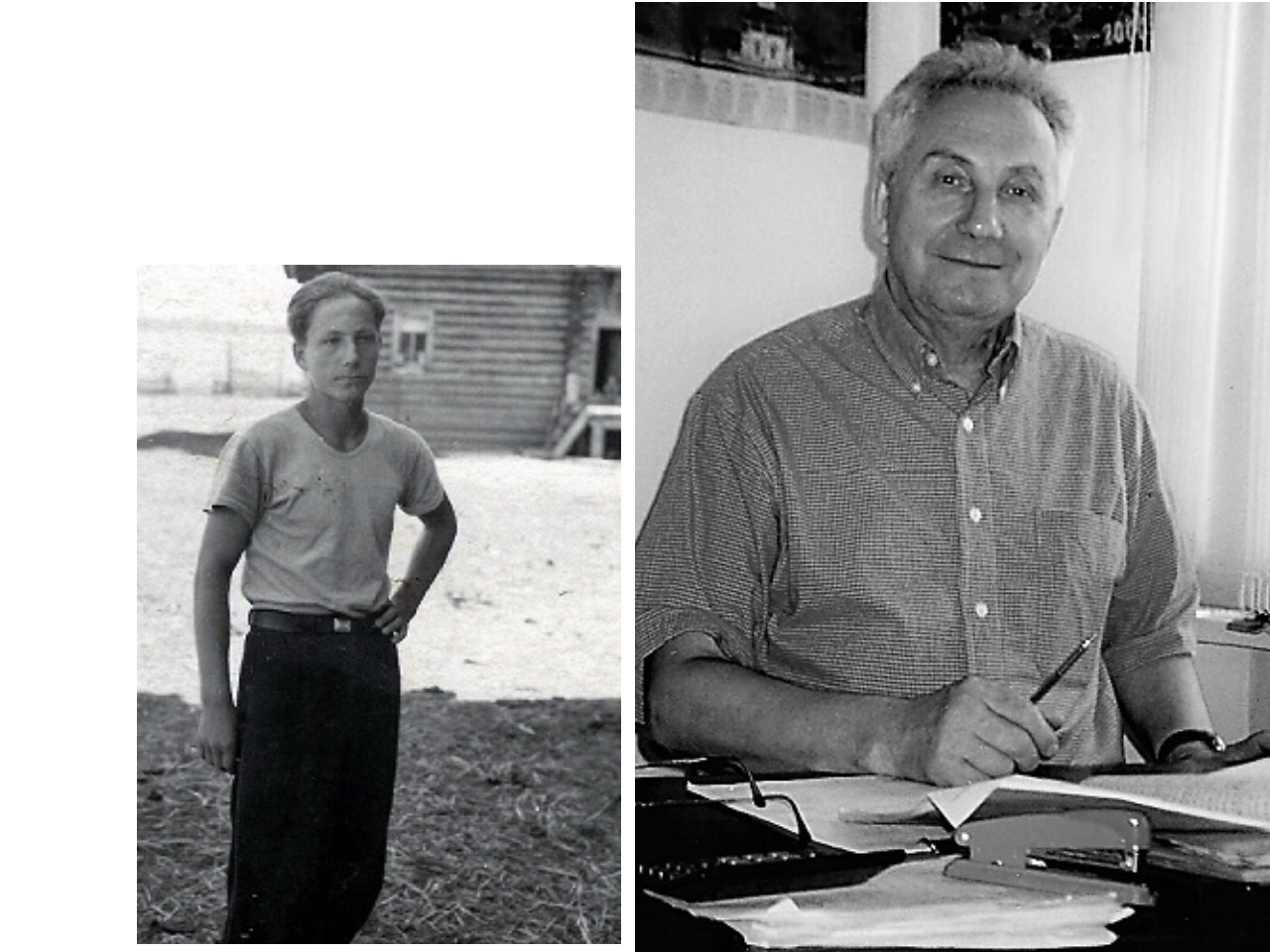
На старой карте Пермского края на севере Соликамского района можно найти деревню Родники. Здесь в мае 1936 года я родился в многолюдной, многодетной семье. Небольшая деревушка — всего семнадцать домов вместе с начальной школой — располагалась на взгорке. По обеим сторонам деревни текли маленькие речки с чистой прохладной водой, берущие начало из родников в тайге. Эта вода нас поила, давала живительную влагу огородам и домашним животным.
В речках шириной около двух метров, к мальчишескому удовольствию, водилась рыба. Мы мутили воду, небольшие щурята всплывали, и мы железной сеткой выкидывали их на берег.
Наверное, так бы и продолжалось наше беззаботное детство, если бы не война. В августе 1941 года моему отцу, Александру Ивановичу Брагину, пришла повестка на фронт. Ему шел сорок второй год.
Отца я помню смутно. Человек он был трудолюбивый, неординарный. Недаром его назначили бригадиром в колхозе «Труженик». Вспоминается, как мама снаряжала меня отнести ему обед в поле. Положит в сумку бутылку молока, головку лука, каравай хлеба (у нас его называли «ерушником»), еще кой-какую снедь. Пока я дойду до поля, обгрызу корку ерушника со всех сторон. Отец не ругался, а только улыбался и сажал меня на тракторную сеялку, катал и показывал, как сыплется зерно в разрыхленную землю.
И другой запомнившийся эпизод — отъезд отца на войну. В погожий августовский день родители запрягли лошадь, усадили в повозку нас, пятерых детей, и поехали мы в Соликамск, на сборный пункт.
А в апреле 1942 года пришла похоронка. В избе, чтобы утешить нашу маму Татьяну Егоровну, собрались соседские бабы. Запричитали, заголосили. Мы с трехлетней сестрой, еще не понимая умом, что произошло, а лишь чувствуя, что случилось что-то страшное, непоправимое, от испуга забились под кровать.
Так началась наша сиротская жизнь. Осталось нас у мамы четыре брата и сестра. Самый старший к тому времени окончил в Соликамске ремесленное училище и был направлен на Первый Березниковский калийный комбинат, где и проработал до выхода на пенсию более 50 лет.
Письма отца с фронта в семье не сохранились. Но, как говорили потом старшие братья, он почти в каждом письме наказывал: «Татьяна, учи детей!» И наша мама, великая труженица, как могла, одевала, обувала нас и всё делала, чтобы мы старательно учились. Трое окончили техникум, двое получили высшее образование. И только второй по возрасту брат Василий окончил лишь четыре класса. Он помогал матери поднимать на ноги остальных. Работал в колхозе, делал мужскую работу: пахал, сеял, жал, ворочал мешки с зерном, возил бревна из лесу.
И младшие по мере сил работали на полях — боронили землю, пололи посадки, сгребали сено в копны. Мы с сестрой собирали на полях подгнившую, промерзшую картошку, из которой готовили крахмал. Искали на лугах съедобные «пистики», «кислицу», «пеканы». Всей семьей собирали ягоды. В наших краях особенно много росло черники. Конечно, все это давало прибавку к скудной еде. А еще мы собирали головки клевера, ржаные и пшеничные колоски. Подсушенные цветки клевера мололи, а затем смешивали с мукой для выпечки хлеба. Вот такая была действительно полезная пищевая добавка! И все равно мы, малые дети, вечно ходили голодные. Ножом скоблили стенки квашонки после того, как тесто из нее уходило на выпечку.
Голодными были и первые послевоенные годы.
Мы разъехались из деревни, чтобы начать взрослую жизнь. Один из братьев-близнецов стал рабочим-химиком. Второй отслужил четыре года на флоте. Я поступил в Кизеловский горный техникум, сестра — в Чердынский лесотехнический.
…Мысль узнать подробности о гибели отца у меня зрела давно. В извещении о его смерти от 17 апреля 1942 года говорилось, что А. И. Брагин погиб, проявив геройство и мужество, и похоронен в восточной части деревни Суковки Юхновского района Смоленской области. Я написал в Смоленский военкомат. Мое письмо переслали в Калугу, так как Юхновский район перешел в Калужскую область. Оттуда сообщили, что отец похоронен у деревни Долина в братской могиле, где покоится прах почти 6 тысяч воинов.
И вот, в июле 2012 года мы с сыном побывали на этой братской могиле. Здесь установлена скульптура солдата в плащ-палатке. В правой руке он держит каску. К памятнику мы положили цветы, а к мемориальным плитам я высыпал горсть земли, привезенной с могилы мамы. И взял ответную горсть, чтобы увезти ее в Березники.
Из окрестностей Юхнова мы возвращались по территории Смоленской области. Не успели проехать на машине и полчаса, как у самой дороги увидели обелиск, окруженный четырьмя могучими елями. Остановились. Оказалось, поблизости от этого места была деревня Суковка, теперь от нее не осталось и следа. Обелиск ухожен, лежат живые цветы. Значит, люди помнят тех, кто сложил здесь головы. На обелиске надпись, берущая за душу:
«Здесь, в междуречье Угры и Рессы, в 1942 году, удерживая натиск фашистов, насмерть стояли воины 49-й армии. „Маленький Севастополь“ — называли тогда этот советский плацдарм за героизм и мужество его защитников. Поклонись этой земле, товарищ!»
Мы поклонились, сфотографировались на память. Я нарвал поблизости полевых цветов и возложил их к обелиску.
Инга Бурдина: «Жди меня…»

Уверена, что первые строки моей статьи совпадут с началом воспоминаний многих моих сверстников. Солнце. Голубое небо. И яркая свежая зелень, какая бывает у нас только в июне. Мы с мамой в сквере между оперным театром и почтамтом. Здесь много гуляющих. Такие же мамы с девочками. И не только с девочками — вон и мальчики в матросках. В воздухе многоголосый гул выходного дня.
И вдруг — металлический скрип из громкоговорителя. И первые слова: «Передаем правительственное сообщение…» Теперь на разный манер и с разной интонацией стали слышны слова: «война», «беда», «горе»…
Таким вспоминается первый из 1418 дней.
И еще — белый хлеб, который мы с мамой купили тут же, в гастрономе, напротив громкоговорителя, произнесшего страшные слова. Вкус этого хлеба я вспоминала всю войну. И после войны. И даже сейчас, когда в магазинах десятки и десятки сортов белого хлеба, мне кажется, что вкуснее того, купленного в первый день войны, нет и не может быть.
Постепенно в городе налаживался ритм военного тыла. Появились хлебные карточки. Окна домов перечеркнули кресты бумажных полосок.
Но первого сентября 1941 года во всех школах города раздался звук колокольчика! Это был и мой школьный звонок. Самый первый в жизни, хотя мне только что исполнилось семь лет. Я оказалась самой младшей в классе, как и потом, во всех классах и на всех курсах, где бы ни училась.
Что еще приходит на память?
Парты, парты, парты, и на каждой промокашка, на ней кусочек черного хлеба, а на нем — ма-а-аленькая горка сахарного песку. Наш скромный завтрак.
Мы «отрабатывали» его своими отметками (не помню, чтобы в нашем классе были двоечники), своими делами — октябрятскими, а потом и пионерскими, тимуровскими, — своими концертами в госпиталях.
Я знаю, что все школьники старались помочь старшим, чем только могли. Знаю потому, что мама моя, Антонина Георгиевна Кузовникова, преподаватель русского языка и литературы, с первого дня войны вместе со всеми своими учениками выезжала на полевые работы. Помню и свою первую поездку в колхоз с ее шестиклассниками-семиклассниками. Ехали сначала по Каме до Частых, затем от берега до села Фоки. Шли пешком по разбитой деревенской дороженьке, а лошадка везет телегу, на которой все наши вещи. Я, семилетка, учительницына дочка, тоже мужественно шагаю, пока вовсе в кровь не стираю ноги и кто-то не предлагает:
— А давайте ее верхом на лошадь посадим.
И посадили. И так добрались до села Фоки.
А на другой день мы уже теребили лен, хорошенькие такие голубенькие цветочки. Только руки болели после этого.
За четыре-то военных лета и четыре осени чего только ни приходилось осваивать городским школярам, чтобы помочь фронту! Помню третий год войны. Я уже третьеклассница, и с мамой, с ее классом поехать на уборочную не получится. Придется меня одну дома оставить. А на кого? Ни бабушек, ни родственников — никого. А кто еду приготовит? А как спать одной? А кто домашнее задание проверит?.. А вот сама как-нибудь управляйся. И управилась!
Константин Симонов помог. Вышел в том году календарь — хоть и на плохонькой бумаге, с занозами, но вышел. Можно было на стенку повесить. И как раз напротив страницы с сентябрем напечатали стихотворение «Жди меня».
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
И были эти строки для меня как молитва. Только встану с постели — к календарю: зачеркну еще один день, без мамы прожитый, прочитаю «Жди меня» — и в школу. А потом музшкола, рукодельный кружок… Много у нас тогда было кружков. Готовили девочек-умелиц к мирному времени.
И это время наступило. 9 мая, как всегда, ровно в шесть утра заговорила наша старенькая черная «тарелочка». И тут же мамины всхлипы:
— Война кончилась! Кончилась, понимаешь?
И я поняла. Поняла уже не тем умом-разумом, как в первый день войны. Вот когда мне стало действительно страшно за каждый из одной тысячи четырехсот восемнадцати пережитых нами дней.
Павел Владыкин: И горе, и счастье — одно на всех
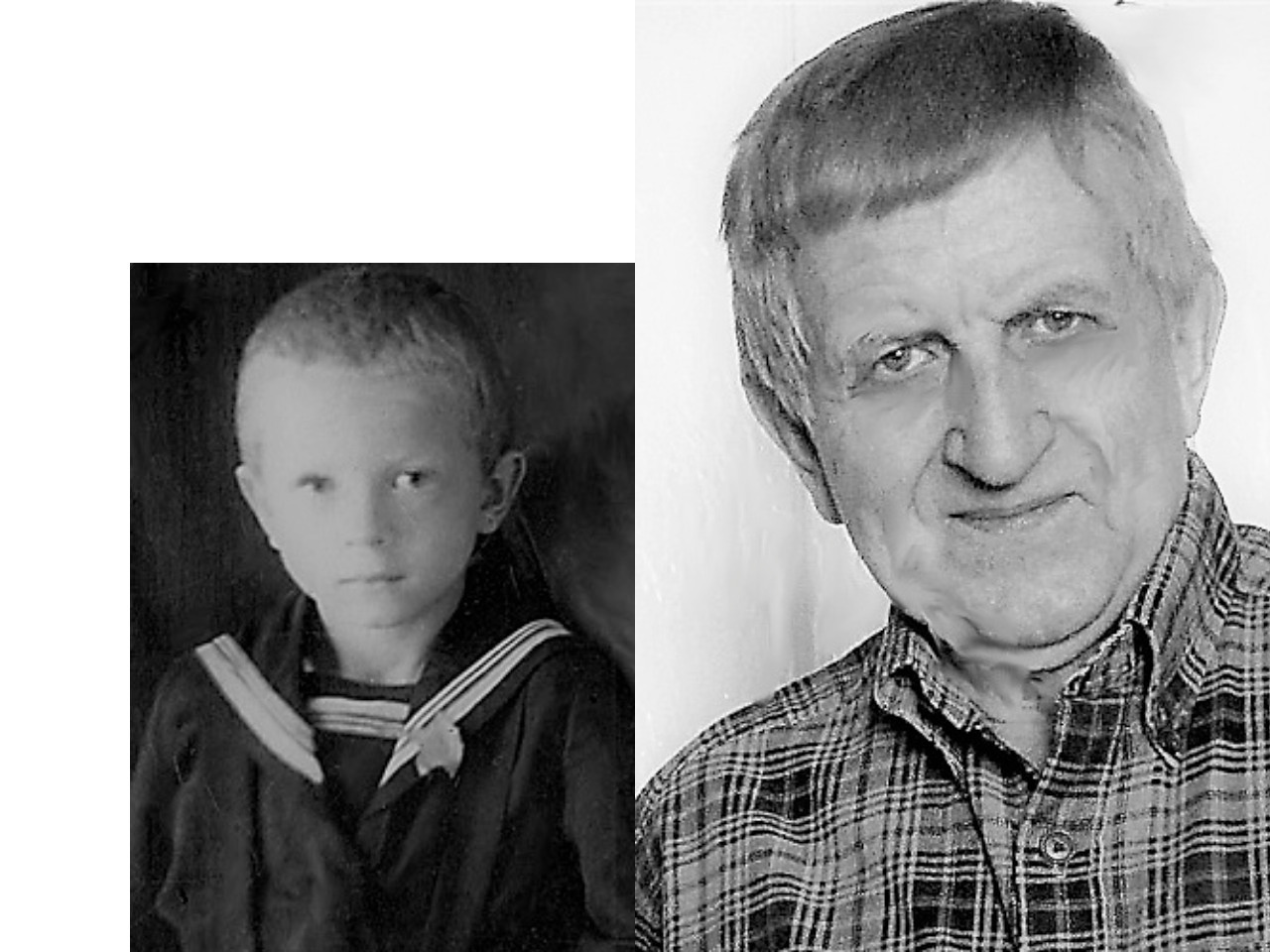
У каждого человека память о его самых ранних годах эпизодична и избирательна. При этом счастливые эпизоды откладываются в памяти не так крепко и не так ярко, как несчастливые (говорят же, счастье — это когда нет беды, когда жизнь спокойна).
Эпизоды «счастливых» воспоминаний зыбки, кратки и особенно дороги. Ускользающая память при некоторых усилиях воспроизводит картинки. Вот детский загородный лагерь для дошколят под Красноярском. Ручная ворона, к ней тянутся все ребятишки, но начался дождь — и все бегом-бегом в беседки. А вот залитый солнцем день. Мы с отцом, мамой и сестрой Нелей на пасеке. И белобородый дед угощает нас брусками золотого сотового меда. А потом север, Дудинка. Черная Полярка щенится. Дома кроме меня — никого. И я показываю в окно соседским детям всех щенков, по мере их появления на свет. Сколько радости! А вот уже Енисейск. Наводнение. И какие-то дяди переводят нас, детей, по бревнам. Из воды торчат скворечники на жердях.
Еще картинка. Тоже в Красноярске. Наша семья отдыхает на острове посреди Енисея. Корзинка с едой на разостланной скатерке. Вдруг загудел самолет. И отец говорит:
— Ложитесь!
Это были военные учения.
В детстве я всегда просыпался с улыбкой. Еще бы, впереди длинный день, полный замечательных дел и игр. А сегодня и вовсе особенный день — сегодня мне пять лет! Но Гитлер испортил мне день рождения: в этот день началась война.
На плоской горе Ёрча в сибирском селе Тасеево, где мы жили, черно от народа. Провожали на войну отцов, мужей, братьев. Отца, оставшегося в Дудинке, на фронт не взяли по зрению.
И снова эпизоды, отрывки из жизни в войну, оставшиеся в памяти.
Вот я в учительской, пришел в школьную перемену к матери-учительнице. И пересказываю учителям слово в слово только что услышанную сводку Информбюро: в каких городах шли бои, сколько немецких танков, самолетов, пушек уничтожено.
Вот почтальон разносит по домам письма с фронта. При виде его у всех сжимаются сердца от ожидания и страха: каким будет письмо — треугольным или прямоугольным, в каком приходит похоронка?
Крепко запомнилась еда. Пища была очень скудная, жизнь — полуголодная.
В детсаду первое время еще были пирожки, и я сберегал порой один — для мамы и сестры. В школе — жуткое однообразие каш и «заваруха» — мука, заваренная кипятком. Стойкий запах кислых щей из столовой. Хлеб — глинистый, с колкими остями злаков, с овсюгом. Картофельные очистки дожариваются на железной печке-буржуйке (однажды труба упала прямо мне на руку). И только в конце войны — хлеб «пеклеванный» и белый по праздникам.
Из дома исчезали вещи. Зеленый эмалированный таз мать променяла на горох. Такая же участь постигла фаянсовую посуду. Куда-то ушла серебряная с золочением турецкая рюмка, хранящаяся в семье от предка, воевавшего в одной из четырнадцати русско-турецких войн (турки считают, что в семи войнах победили они, и в семи — русские).
Неустанно трудились все. Мать, учительница, сама перекладывала кирпичную печь. Летом мы с сестрой помогали, как могли. Окучивали картошку в поле за селом. От жары спасал прохладный ключик. Рядом с ним — недозрелая дикая смородина, которую все же можно было есть. Иногда нам помогали дедушка и бабушка Канушины. Дед выстругал мне короткие лыжи, на которых можно было скатываться с Ёрчи.
Однажды в Тасеево привезли под конвоем очень много мужчин, одетых в серое. «Власовцы!» — прокатилось по селу. Поселили их в клубе. Мы с ребятами видели, как их выводили на прогулку. Несколько кругов они прошли по площадке у клуба. Потом их увели в клуб. И конвоиры (среди них были и женщины) стали разряжать винтовки — только летели в снег патроны.
Затем так же прогнали куда-то дальше в Сибирь пленных немцев.
Бытовала у нас семейная легенда. Однажды мой двоюродный брат-дошкольник шел в магазин с хлебной карточкой. Весна, снега еще не стаяли. И вот к нему подходит школьник.
— Смотри, — говорит, — что у меня есть, — и показывает яркую, всю в черных точках божью коровку, очнувшуюся после зимней спячки. — Нравится? На что меняешь?
Братишке так понравился жучок, что он отдал за него хлебную карточку. Вернулся домой с красивой божьей коровкой в спичечном коробке — вместо хлеба.
Потянулись в село Тасеево покалеченные воины: у кого руки нет, у кого — ноги, у кого — осколок в теле. Вместе с бойцом-конюхом, калмыком по национальности, приехал с фронта мерин Серко. Они подвозили к школе бочки с квашеной капустой. У обоих были ранения. У Серко на туловище кровоточила незаживающая рана — осколок пробил шкуру и застрял в боку. С этого фронтового коня и началось мое общение с лошадьми. Научился их запрягать. Потом гонял с ребятами коней в ночное. А в двадцать лет, работая на целине — прицепщиком на тракторе и штурвальным на комбайне, — отгонял по степи вороного коня в саманный дом его хозяина — тракториста Файзуллы Кулаева.
День Победы запомнился таким же ярким солнцем, как четыре года назад. Было большое стечение народа на сельской площади — никто дома не остался, все вышли на улицу. Салют из охотничьих ружей. В воздух летели газетные пыжи.
После победы жизнь стала сытнее. Появились дальневосточные крабы, сгущенное молоко в жестяных банках. Доставалось красной и черной икры из бочек, и ели ее столовыми ложками. Завезли по ленд-лизу американский яичный порошок. И американский же шоколад в больших плитках без оберток. Желтый жир, лярд. И одежда оттуда же. Мать долго носила цветастое крепдешиновое платье. Все это приходило вместе с журналами «Америка». На страницах шли вперемешку во всю страницу портреты генералов Эйзенхауэра, Брэдли, американской певицы-негритянки Кэтрин Дэнхам и английского генерала Монтгомери. Эти журналы (со стойким запахом магнолии) какое-то время хранились в семье. В «Америке» печатались поражающие воображение проекты, картинки будущих самолетов-лайнеров на двести-триста пассажиров (и это как-то незаметно стало явью). На улицах села появились элегантные, с плавными линиями грузовики-«шевроле» и тупоносые «студебеккеры».
Спокойнее, уютнее стало жить. И все сразу и вместе почувствовали себя счастливыми. Вот оно — счастье, которого не было четыре с лишним года, одно на всех! Так же, как в военные дни и годы горе было одно на всех. И у каждого — свое…
Николай Гашев: Война гуляла по России

Война гуляет по России.
А мы такие молодые…
Д. Самойлов
Мне не было еще и восьми, когда началась война. Мы с трехлетним братом Борькой узнали об этом от мамы. Она работала почтальоном, разносила в толстой сумке на ремне письма и газеты. Мы с Борькой привыкли, что она, возвращаясь с работы, каждый раз приносила нам что-нибудь вкусненькое — свежую булочку с вареньем, кулечек конфет, пирожное. Мы ее всегда ждали, а иногда ждали-ждали да и бежали встречать.
Жили мы тогда недалеко от деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь». Там, на окраине в Перми (Молотова), была уже целая улица насыпных домов. Снаружи дома вполне нормальные — окна, двери, покатая крыша, только стены не бревенчатые, а из широких плах, между которыми плотно набиты опилки. Тепло они удерживали очень плохо. Ночью, особенно в морозы, вода в умывальнике превращалась в лед. Застывала вода и в ведрах, которые приносили с вечера. В одном из таких домов-«морозильников», построенном собственноручно нашим дедом Василием Чудиновым, крестьянином из села Зюкай Карагайского района, мы и жили. Чтобы нас не заморозило, дед вынужден был по ночам растапливать подтопок, сложенный из кирпича, с чугунной плитой наверху. Когда плита раскалялась до красноты, в комнате становилось более или менее тепло.
В Зюкае у деда был прекрасный пятистенный дом, но местный комбед решил раскулачить его: дескать, больно уж богато живет. И пятистенок под железной крышей, и коровы, и телка, овцы во дворе, да еще куры, гуси — не сосчитать сколько, и на пасеке десятки ульев. И швейная машина «Зингер», немецкой фирмы. Эта фирма сделала его, простого крестьянина, доверенным лицом по распродаже швейных машин. Деду кто-то из хороших людей шепнул вечером: «Тебя, Василий, включили в список, завтра с милицией придут». Дед не стал дожидаться непрошеных гостей. Ночью велел жене положить в мешок каравай хлеба, банку меда, немного огурцов, помидоров, вылез в кухонное окно, переправился на плоскодонке через Обву и ушел ночью через лес на станцию Менделеево. На первом же поезде уехал в Пермь. В городе никому дела не было до беглого кулака. Дед особо-то и не прятался. Устроился сторожем на кондитерскую фабрику.
Вот из насыпного дома деда мы с Борькой и отправились встречать маму. По-видимому, тогда еще только прокладывали трамвайную линию мимо завода имени Дзержинского в сторону «Красного Октября». Во всяком случае, мы с Борькой брели по шпалам. Устали, сели отдыхать прямо на рельсы. Тут и нашла нас мама. Она, худенькая, тоненькая, в синем костюмчике (тогда почтовиков начали одевать в одинаковую форму), была необычно бледной.
— Беда, ребята! Война!
Мы не сразу поняли, почему мама так расстроена, говорит через слезы. А она сильно переживала об отце. Он был осужден, как мы знали, за то, что назвал контролера в дачном поезде «паразитом». Слово оказалось оскорбительным для человека «при исполнении». Папку, эдакого интеллигента в очочках, арестовали и осудили на год исправительных работ. Отбывал он наказание в Ераничах. Там была вырыта в земле огромная яма, в которую на ночь загоняли около тысячи вот таких мелких «хулиганов», как наш отец. Утром их поднимали и отправляли на какой-нибудь завод или фабрику. До вечера они работали, а потом снова опускались в свою вонючую яму. Там они спали, ели, болели и умирали. Папке, как самому грамотному заключенному, начальство доверило по утрам составлять списки тех, кто не мог выйти на работу. Он мне говорил потом, что иногда скрывал и даже уменьшал число умерших: так узники получали лишние пайки, делили их между собой. Вот из-за папки мама и переехала с нами к своему отцу. Хотелось быть поближе к папке, чтобы навещать его, поддерживать скудными передачами.
Здесь, на краю города, была и школа. Помню, что все мне в этой школе нравилось. Помню даже первую оценку, которую мне поставила учительница, — зеленую черточку в тетради. Это означало «хорошо». Красная черточка — «отлично», черная — «посредственно».
Судя по всему, я был бы не самым последним учеником в классе, но долго учиться в этой школе мне не пришлось. Не было ни ботинок, ни валенок, ни пальто, и купить не на что. Поэтому мама сказала, что этот год мне придется посидеть дома. Помню, учительница давно велела нам приготовить десять палочек для арифметики. Я поленился, не сделал. А тут нашел где-то деревяшку и выстругал эти десять палочек. Не верилось, что я не буду учиться, тем более что я успел подружиться с ребятами. После уроков мы не спешили расходиться по домам, а бегали по улице, устраивали шумные игры, гоняли мяч.
Однажды к нам подошел парень в потрепанной синей курточке, в кепчонке, из-под которой выбивался белый чубчик. Мы думали, что он хочет поиграть с нами. Но парень спросил:
— Ребята, кто из вас знает, где тут военкомат?
Мы знали, что такое военкомат. У некоторых из нас отцы, старшие братья уже ушли на фронт. Но все они, как нам казалось, были старше этого паренька, и сильнее его, и крепче.
— Зачем тебе военкомат?
— На фронт хочу. Восемнадцать стукнуло, чего еще ждать?
Мы окружили паренька и вместе с ним дошли до военкомата. Он поднялся на крыльцо и, обернувшись к нам, весело помахал рукой. В мою детскую память этот парень просто врезался, вошел в нее. И долго-долго жил во мне, тревожил, беспокоил. Это беспокойство о нем, тревога, в конце концов, вылились в стихотворные строчки, когда я был уже студентом университета, третьекурсником. Принес свое стихотворение в редакцию газеты «Молодая гвардия». Литературным консультантом там был Лев Давыдычев, тоже недавний студент университета, в будущем знаменитый писатель, автор многих книг, изданных в Перми и в столице. Он раз десять заставлял меня переделывать чуть не каждую строчку. А потом стихотворение «Наш парень» появилось в газете. Стихи были так себе, но искренние — это точно, и пришли они ко мне из моего очень раннего военного детства.
…Зимой отца освободили. Я первый увидел его в окошко. В шапке с ушами, завязанными на подбородке, в сером ватнике, в каких-то нелепых растоптанных валенках, с желтым фанерным чемоданом в руке, он быстро пересек дворик.
— Папка приехал! — завопил я.
И когда он распахнул двери и в клубах морозного воздуха вбежал в дом, мы все кинулись к нему, но он остановил нас:
— Не подходите! Я весь во вшах!
Тут же, у порога, он снял с себя всю одежду. Дед выкинул ее на мороз. Потом на кирпичном подтопке с раскаленной докрасна чугунной плитой вскипятил два ведра воды и тут же, у порога, в каком-то корыте вымыл отца с головы до ног.
Папку снова взяли в Верещагинский леспромхоз, на ту же должность — техруком. Вскоре мы все переехали в Верещагино, в дом 65 по улице Фрунзе, рядом с единственным тогда двухэтажным кирпичным зданием, которое именовалось Дом обороны. В нем формировались воинские подразделения, которые по железной дороге отправлялись на фронт. Я помню, как просторная площадь возле Дома обороны была уставлена зенитками. Видимо, в Доме обороны размещалась какая-то артиллерийская часть. Зенитки направляли в небо свои огромные стволы, словно хотели отразить воздушную атаку. Но выстрелов я не слышал: видимо, не стреляли. А вот миномет стрелял. Причем я с крыши дома наблюдал, как минометчик опускал в широкий ствол снаряд, затем отбегал в сторону, зажимая уши. Гром выстрела был такой, что в первый раз я чуть не свалился с крыши. С ужасным грохотом снаряд вылетал из минометной трубы и, описав широкую дугу, опускался на другой стороне площади.
Потом, уже став совсем взрослым, я описал эту минометную стрельбу в повести о моем детстве «Просека на болоте». Рукопись послал в Красноярск Виктору Петровичу Астафьеву. Он написал: «Коля, ты не мог видеть снаряд, который вылетает из миномета. Он же, снаряд, летит как пуля. Его можно почувствовать, когда он обрушится на тебя сверху, разорвется».
Я, конечно, не стал спорить с человеком, который на фронте был тяжело ранен, может быть, даже вот такой вражеской миной. Вычеркнул это из своей повести. Но что-то же я видел, когда стреляли из миномета у Дома обороны!? Или это мое детское воображение только нарисовало в моей памяти высокую траекторию, по которой летела мина?
Если снаряд, вылетающий с грохотом из жерла минометной трубы, я, испуганный пацан, действительно, мог и не видеть, то взрыватель от этого снаряда — медную трубочку, похожую на нынешнюю шариковую ручку, –видел, и держал не только в руках, а даже и в зубах. Мы с Борькой нашли этот взрыватель недалеко от колодца. Как он туда попал, я не знаю, но взрыватель нам понравился. Мы с Борькой заглядывали в его вытянутое горлышко: там внутри что-то белело. Мы попытались это беленькое выковырять. Я и в зубы брал горлышко, ворочал в ту и другую сторону, чтобы увидеть, чтó там, внутри. В конце концов, мы притащили эту трубочку домой. Я нашел в отцовских инструментах шило, вставил в горлышко и стукнул сверху молотком.
Медная трубочка, как живая, на наших глазах начала толстеть, расширяться, потом с жутким жужжанием спрыгнула со стола на пол, и там, под столом, грянул взрыв, во все стороны полетели куски меди, потянуло дымом. Когда мы заглянули под стол, там от одной из половиц был вырван огромный кусок, как будто кто-то в этом месте рубил заточенным топором.
Как нам с Борькой не выбило глаза, не оторвало пальцы?! Как этот взрыв не грянул у меня в зубах, когда я пытался открутить взрыватель?!
Слепая удача еще не раз нас выручала. Помню, у одного из бойцов, которые проходили подготовку в Доме обороны, я выменял на калегу коробку спичек. Селитра понадобилась мне, чтобы зарядить поджиг — трубу, привязанную проволокой к деревянному макету пистолета. Селитру поджигали и ждали выстрела. Иногда, правда, поджиг стрелял не туда, куда его направляли, а назад — в грудь того, кто ее держал.
Ничего не поделаешь: мы жили войной. Война гуляла по России.
Антонина Гусева: Я люблю этот праздник

На календаре снова — слава богу! — 9 Мая. Я люблю этот праздник. Хотя все меньше и меньше остается тех, кто участвовал в войне. А также тех, кто в те годы был ребенком. Для детей войны это были страшные, голодные и холодные годы. Память об этом не исчезла. Отчетливо помнится каждый день…
«Говорит и показывает Красная площадь…»
Но начну с другого значимого для меня события — Парада Победы на Красной площади, очевидцем которого я стала в 1967 году. Вспоминаю, как за два дня до первомайского праздника мне вручили пропуск на Красную площадь за номером 02974. Он давал мне право входа на главную площадь страны 1 Мая, в День международного праздника трудящихся. Первомайскую демонстрацию тогда решено было совместить с Парадом Победы.
И вот я в столице. Утро было теплым, светлым. Не могла скрыть своего волнения — внутри все пело! Да и как могло быть иначе?
Подхожу все ближе и ближе к площади. Постовые проверяют документы. Людей пока мало, но уже движется военная техника. Громадные ракеты. Пушки. Танки. И так все это торжественно «шагает» по улицам! Подхожу к своей трибуне. Вокруг начинают собираться другие зрители парада, хотя еще только восемь часов утра. Ближе к десяти начинается оживление. Проходят курсанты. Перед нашей трибуной выстраиваются парадные пешие расчеты. Молодые красивые офицеры в белых перчатках. Рядом с ними — командиры, в серо-голубых шинелях, начищенных до блеска ботинках. Все ждут команды.
10 часов. Раздается бой курантов на Спасской башне. Звучит команда линейным. Голос диктора проносится над Красной площадью настолько торжественно и красиво, что трудно сдерживать слезы. На трибуне Мавзолея — генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, руководители страны того времени. Здесь же космонавты — Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие.
Раздаются новые команды. Все приходит в движение. Звучат фанфары. Гремит бравурная музыка. Вот Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко вместе с командующим парадом совершает торжественный объезд войск. Участники парада проходят строевым шагом мимо правительственной трибуны. Потом нахимовцы, суворовцы. Выдвинулась боевая техника. Оборонный арсенал выглядит мощно, утверждающе.
…Два часа пролетели незаметно. На площадь вливаются колонны демонстрантов. Демонстрация закончилась. Спешу в метро. Надо звонить домой маленькой дочке и маме. Как они там?
Это было до войны
До войны мы жили в Березниках. Мой отец молодым парнем приехал строить город из Нижнего Новгорода, мама со своими братом и сестрой — из Елабуги. В квартире на улице Фрунзе, 15, где мы жили, было четыре комнаты. Одну из них занимала семья из Удмуртии. Вскоре эта семья и еще одни наши соседи куда-то исчезли. Время было такое: люди исчезали из-за доносов, их сажали в тюрьму даже за небольшое опоздание на работу или другие «неблагонадежные» поступки… В июне 1937 года забрали и моего отца, Ивана Александровича. Судила его «тройка». Дали срок без права переписки.
Жили мы очень бедно. Главная еда — чечевица. Мама училась на рабфаке и оканчивала курсы мастеров. Много работала. В школу я пошла в 1938 году. Как-то учительница пения попросила меня спеть любимые песни. Я не заставила себя долго ждать.
— О, какой у тебя хороший голос! — отметила она.
Мне мои вокальные данные потом в войну здорово пригодились. Хотя, если честно, на голодный желудок петь было непросто.
В марте 1940-го маму уволили с работы за опоздание. Нас выселили из квартиры в течение 24 часов. Помню, как стояли на улице. Рядом — сундук, цветок в горшке, железная кровать и две табуретки. Жить нам, по сути, было негде. Решили уехать в Усолье.
А это в войну…
День начала войны помню очень хорошо. Мы с моей тетей Еленой Николаевной пошли в березниковскую столовую №3. Столовую долго не открывали. Говорили, что в 16 часов по радио будет выступать Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР. Когда двери открылись, все бросились в помещение слушать Молотова. Я подошла к буфету и стала разглядывать витрину. Бутерброд с красной икрой стоил 20 копеек. Я подсчитала в уме, сколько же мы можем купить бутербродов. Но буфет не работал, а на следующий день мы сюда уже не пришли…
Жизнь в городе мгновенно изменилась. Приехало много эвакуированных. «Акающий» московский говор, благородная простота ленинградцев перемешались с суровой твердостью уральской речи. В квартиры по решению горисполкома вселялись приезжие. С ними березниковцы делились теплыми вещами, посудой.
Мама устроилась работать на местную швейную фабрику мотористкой. Но спустя год у нее случился инфаркт, и ее положили в больницу.
Взрослым по хлебным карточкам выдавали по 400 граммов в день, столько же — детям. Многие голодали. Люди обменивали в деревне на продукты одежду, скатерти, самовары, чайники.
В каждой школе учеников, начиная с десятилетнего возраста, отправляли на два-три месяца в деревню работать на полях. Труд в колхозе был тяжелым. Тайком выкопать турнепс или взять колоски пшеницы без разрешения никто не рисковал.
Одежонка и обувь были никудышными. Особенно тяжело было осенью.
В школе проводились пионерские сборы. Работали тимуровские команды. А какая сильная была самодеятельность! Эвакуированная из Киева учительница Мария Гердт отвечала за концерты в госпиталях. Мы часто там бывали. Раненые не отпускали нас без подарков. Обязательно угощали сахаром, давали хлеб. Впрочем, некоторые местные дети не ощущали той бедности и безысходности, как эвакуированные. Так, Валентин Лобанов (кстати, будущий директор Березниковского титано-магниевого завода) где-то доставал жмых и приносил одноклассникам. А Коля Щукин всегда отдавал свой обед и кусочек хлеба кому-нибудь из девчонок.
Осенью 1944 года пять человек из школы, включая меня, вступили в комсомол. После этого мероприятия нас покормили в столовой. Обед был хороший, и хлеба дали несколько кусочков. Я принесла их маме в больницу. После уроков из Усолья я возвращалась в Березники, навещала маму — и снова домой. И так в течение двух месяцев, пока сама не свалилась от голода…
Я была активной участницей самодеятельности. На районном смотре мы с девочками танцевали «Яблочко» и пели песню о Сталине: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет. С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». Чтобы я могла выступать на сцене, мама сшила мне из нижнего белья кофточку. Премию за выступление нам тогда не дали, но на сцену вышел какой-то мужчина и вручил мне талон на ботинки. Я их выкупила — белые, мягкие, из лосиной кожи. Носила их очень долго.
«Уралочка»
Об этих и других эпизодах своего детства я рассказала много лет спустя великому композитору Араму Хачатуряну. Вот как это было. Тридцатого декабря 1969 года в Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского состоялась премьера спектакля «Спартак». Музыку к балету написал народный артист СССР, доктор искусствоведения, композитор с мировым именем Арам Ильич Хачатурян.
Композитора многое связывало с Пермью: в годы войны он был здесь в эвакуации. В декабре 1942 года балетная труппа знаменитого Кировского театра поставила здесь его новый балет «Гаянэ».
…И вот я спешу к Араму Ильичу. От волнения забыла варежки, а на улице — морозище. Захожу в здание, поднимаюсь на второй этаж. Мне открывает дверь высокий, несколько тучный человек в черном шелковом костюме. Я в своем пальтеце и в белой заячьей ушанке стою перед ним в растерянности. И слышу:
— Вы как настоящая уралочка!
— Так я и есть настоящая уралочка! — немного осмелев, отвечаю я.
Диалог этот предваряло наше телефонное знакомство, когда я договаривалась о встрече композитора с журналистами (в то время я работала директором Пермского Дома журналистов и редактором еженедельника «Пермская панорама»). Пришлось рассказать о себе: что я из Березников и что во время войны школьницей, выступая в госпиталях перед ранеными, пела его известнейшую тогда песню «Уралочка».
Встреча в Домжуре прошла очень интересно. Журналисты засыпали Хачатуряна вопросами, больше всего интересовались его жизнью у нас в годы войны. Он вспоминал о Перми тепло, рассказывал, что в 1942 году жил на пятом этаже в гостинице «Центральная», написал там около семисот страниц партитуры «Гаянэ». И знаменитый танец с саблями написал именно тогда, в гостиничной комнатушке, где с трудом помещались пианино, стол и табуретка. Сел за работу в три часа дня, в два часа ночи закончил, до утра переписал ноты на отдельные партитуры, утром уже репетировали.
Мы много говорили о том, как трудно жилось во время войны. И как высоко ценились тогда людское участие и поддержка.
Галина Дубникова: Самый счастливый день

Из раннего детства в памяти ярче всего — как мы с мамой идем из садика!
Вот один такой вечер. Еще не очень поздно, но глубокой осенью, да в непогоду темнеет рано. Скорее всего, это суббота, потому что в садике я жила по шесть дней в неделю. Заветный момент: идем с мамой домой! Хотя какой он, наш новый дом? Кладовка в три квадратных метра в двухэтажном восьмиквартирном доме, куда нас с мамой привезли с железнодорожного вокзала Пермь I в 1941 году.
По маминым рассказам, поскольку в годовалом возрасте, разумеется, в моей памяти это следов не оставило, мы пережили двойную эвакуацию. Из Минска, где только что получили хорошую квартиру, в хорошем доме, в хорошем месте, после первой бомбежки и попадания бомбы в этот дом вынуждены были бежать в лес, а потом искать спасения у маминого брата в Сталинграде. Спастись не удалось: пришлось бежать дальше и дальше, в неизвестную точку на карте, про которую мама ни сном, ни духом не ведала, — город Молотов. Долго ехали в промерзающей теплушке. Высадили маму на берегу Камы с двумя поклажами — за спиной мешок, на руках в теплом одеяле я. Сплю. На щеки снежинки падают, а может, и мамины слезы. Подошел возчик, который собирал приезжих, отвозил туда, где определяли им место жительства, а затем доставлял их по адресу. Этот человек стал ее успокаивать: чего, мол, плачешь, посмотри, какой малыш у тебя сопит. Уберегла же! И здесь тебе помогут.
Это не мои воспоминания, но порой мне кажется, я хорошо представляю, как оказались мы в Молотове в предзимье 41-го. На лавочке, на самом берегу Камы. Может, поэтому всю жизнь она к себе притягивает?..
Возвращаюсь, однако, к тому, что и на самом деле помню. Мы идем из садика! Прошли страшное место — здание тюрьмы, в котором сидят нехорошие люди, подходим к нашей улице. На углу квартала стоит столб с раскачивающейся на ветру тарелкой фонаря. А внизу… Под ногами блестит глина! Если разбежаться, то можно по ней катиться, а можно даже войти в лужу, в которой плавает фонарная лампочка, и от этого сама лужа светится. Весело и немножко боязно: ведь кругом вода! Мама кричит:
— Что за ребенок! Простынешь, ноги промочишь. Выходи немедленно!
И что-то еще. Я же не думаю о том, что ей нужно нести полные ведра воды с неблизкой колонки, отмывать меня и от глины, которая налипала везде и всюду, и от недельной садиковской жизни.
Кухня большая, в ней большая печка и большая плита, на которой и грели воду. Мама мыла меня в корыте, закутывала в одеяло и несла на нашу кровать в нашем «пенале». Кровать узкая, но я прижмусь к маме, мы еще немного поговорим — и начинаются сказки во сне. А в них все мои друзья по садику, и Ася тоже. Когда меня ставили перед ней, она кусала меня за локти. Только во сне она не кусалась, а просто рассказывала про свой город Ленинград. Будто сама помнила. Ясное дело, ей мама рассказывала. И мне ужасно хотелось в тот город, хотя и во сне.
Наш чай, или завтрак, или обед по воскресеньям проходил в нашей «комнате». В ней порог служил стулом, на котором мы с мамой умещались вдвоем. Табурет, покрытый клеенкой, превращался в стол.
Посреди комнаты на длинном проводе лампочка. Она меня пугала, потому что, когда становилось темно и ее включали, раздваивалась: точно такая же появлялась за окном. Мне было интересно, как так она туда перебралась, но мама отвечала одно и то же: это отражение, как в зеркале. Я не понимала, что значит само слово «отражение», хотя везде и всюду сталкивалась с ним. Да хотя бы в тех же любимых лужах, куда меня просто затягивало. А если еще в солнечный день, да чтобы в ней все небо с облаками отражалось! В самом деле, не могли ведь облака в лужу упасть! Они так высоко, а тут — вот, в самой луже! И я могу по ним шлепать!
Садик наш, как говорили тогда, элитный — в него ходили дети сотрудников НКВД. Что это за НКВД такое, понятия не имела. Мама работала бухгалтером в той самой тюрьме, мимо которой обычно шли, и которой я боялась, а мама почему-то говорила, что там и хорошие люди есть. Как те тети, которые сшили мне пальто из шинели (на вырост и очень неудобное, в нем бегать неловко).
Мой обычный путь из садика проходит под мамино ворчание:
— И когда ты будешь идти спокойно, за ручку, как все дети?
Зачем за ручку? Ведь столько загадочного за каждым поворотом, за каждым домом! И хоть краешком глаза да хочется заглянуть: а что там? Вот из таких перебежек и состоит мой путь. А если на земле, да в солнечных бликах сияет осколок стекла! Да еще зеленый! Это настоящая драгоценность, которую можно долго рассматривать в солнечных лучах. Как в нем все переливается, сверкает, играет! Скорее спрятать его в кармашек, чтобы поиграть дома — ведь никаких игрушек у меня нет. Ни кукол, ни зверушек мягких. Что это такое — мягкие игрушки? Представить себе не могла. Садиковские не запомнились почему-то.
Еще дорога домой состояла из подробного рассказа о том, что происходило в садике. И все песни, какие мы там выучили, непременно исполнялись тут же — от бодрых военных («У меня есть шашка на ремне, поскачу я ловко на коне») до лирических («По солнышку, по солнышку дорожкой луговой иду по мягкой травушке я летнею порой. И любо мне, и весело смотреть по сторонам — голубеньким и беленьким я радуюсь цветам»).
Мама слушает и улыбается. А одну песню почему-то попросила больше не петь. Зима, идем это мы, и я ору на всю улицу: «Мама, мама, мама! Какая случилась драма! Вчера была я девушкой, сегодня уж я дама!» Смотрю, мама даже не улыбнулась, только попросила меня песню эту забыть. Зато сзади раздался смех. Какой-то дяденька на костылях шел и хохотал вовсю. Вообще-то я видела много дяденек — то на костылях, а то на каких-то дощечках с колесиками. Они в госпиталях лежали, их с фронта сюда привозили. Эту информацию я уже усвоила. Тот дядя, видимо, тоже из госпиталя. Он нас догнал, похвалил меня, сказал маме, что у него есть такая же дочка, только вот не знает, где она сейчас. Он очень хотел взять меня на руки, да на костылях неудобно. Вот и пойми взрослых: то я молодец, а то — больше не пой.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.