

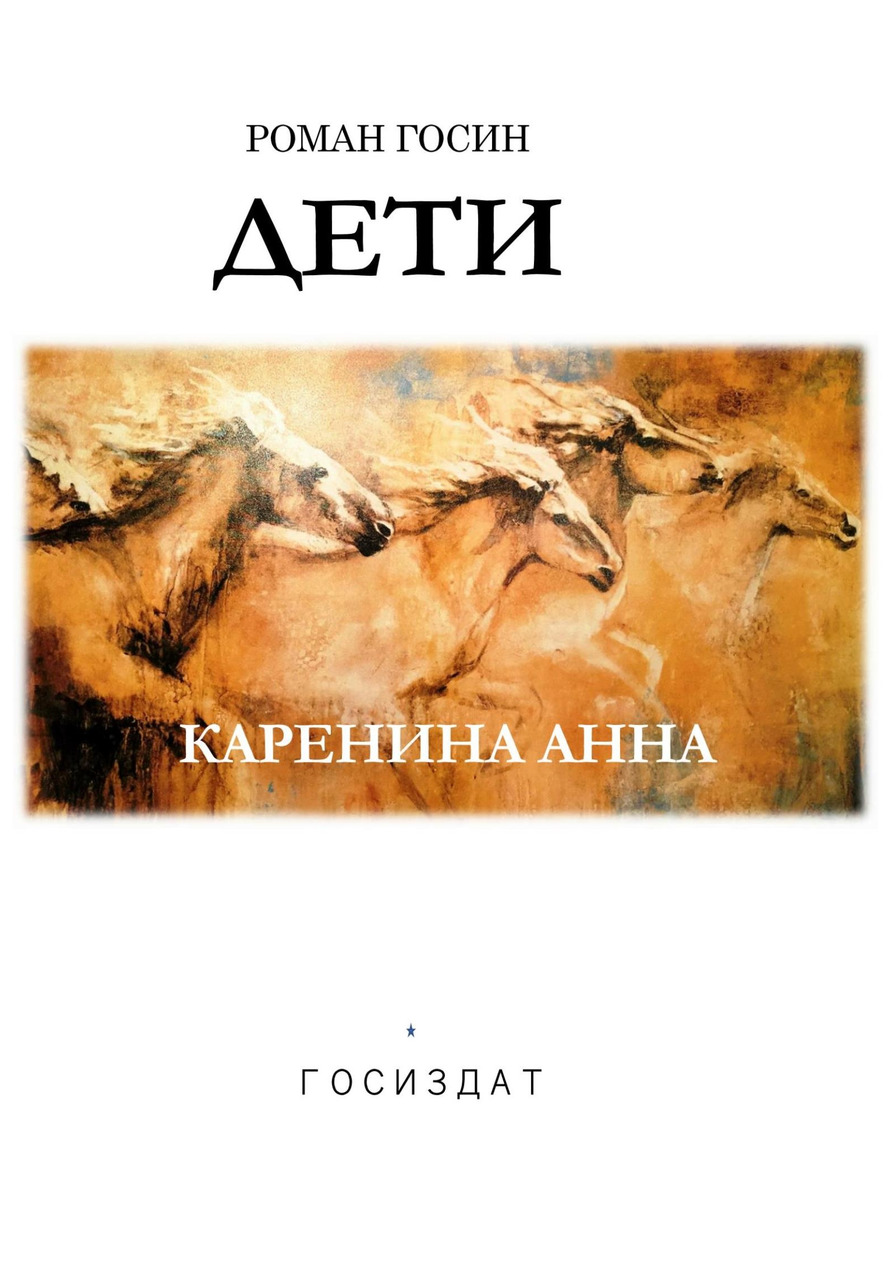

ОБЪЯСНЕНИЕ АВТОРА
Об Анне Карениной, как кажется на первый взгляд, известно многое. Но в большинстве случаев это не более, чем стереотип. Большинство воспринимает изложенную Львом Николаевичем Толстым историю так: флирт, переросший в любовный треугольник, приведший к самым трагическим последствиям. Участники треугольника у всех на слуху: Анна Каренина, её муж Алексей Александрович Каренин и граф Алексей Кириллович Вронский, любовник Анны. Из-за своего, как многие считают, легкомысленного, взбалмошного увлечения Каренина теряет безупречную репутацию в обществе, покрывая своё имя несмываемым пятном позора. В результате она не видит иного выхода, кроме как броситься под колёса товарного поезда, разом разрешив все проблемы и тяготы жизни.
Но после неё остаются двое детей — сын Серёжа и совсем маленькая девочка Анна. Именно за оставленных детей и проявленный эгоизм более всего упрекают Каренину читатели всех поколений и эпох. Но суд человеческий редко бывает справедлив. Люди склонны относиться к своим грехам благосклонно, находя им множество объяснений, а вот других они судят по всей строгости. Но не судите, да не судимы сами будете.
Те, кто прочёл мою первую книгу под названием «Пролог», уже знают, что при определённых условиях и допущениях история описанной Толстым семейной драмы на этом не заканчивается. Вторую из четырёх книг своего литературного эксперимента «Каренина Анна» я назвал «Дети». Она является скромной попыткой соединить реальные и вымышленные события в единую историю жизни её персонажей, как я их себе представляю в соответствии с временными рамками последней трети XIX-го и начала XX-го века. В эпицентре этих событий стоят семейная жизнь и любовь — явления вневременные.
ОТ РЕДАКТОРА
Роман Толстого «Анна Каренина» — это настоящий кладезь сюжетов. Ошибочно думать, что персонажи, созданные Львом Николаевичем, могут существовать лишь в одном конкретном классическом произведении. Большое количество героев, внутренних конфликтов, незаконченных сюжетных линий дают возможность, при должном желании и умении, продолжить историю.
Автор книги «Каренина Анна. Дети» бережно соединил сюжеты, извлечённые им из толщи романа Льва Толстого «Анна Каренина», со своей фантазией. В итоге получилось многоплановое произведение. Это, безусловно, самодостаточная книга о людях со своими характерами, мыслями и судьбами. В ней сплетаются воедино литературная классика и постмодерн, а без достаточного знания самого романа, литературы, российской истории и истории наук книга, возможно, превратилась бы в пародию на классику. Но этого не происходит. Всё в ней выверено. Точность в описании городов, одежды, мелких бытовых деталей, интересные факты из области биологии, физики, химии, внимание ко всем персонажам делают из семейной саги конца XIX — начала XX века познавательное художественное произведение. Темы первой любви и раннего замужества, важность образования и самореализации, ценности семейных уз, природного таланта и целеустремлённости, чести и достоинства составляют его основу.
Один из самых сложных вопросов литературоведения — что является классикой?
Конечно же, классика — это всегда взгляды на проблемы, волнующие людей вне зависимости от эпох, стран, тем. Ещё одним качеством, обеспечивающим классическому произведению бессмертие, является образность, способность дарить цитаты и даже превращать их в анекдоты. Это явление одно из мерил настоящей классики. Художественная литература не должна забывать обо всех явлениях жизни, в том числе вызывающих смех. Без них классика мертва.
Звериная серьёзность, с какой любят трактовать книги классиков, отбивает всякое желание их читать. В этой связи хочется надеяться, что такая книга, как «Дети» по мотивам романа Толстого, не произведёт подобного эффекта, и читателям захочется прочесть «Анну Каренину», но уже не по школьной программе.
Роман «Дети» является второй книгой литературной серии Госина «Каренина Анна». Первая называется «Пролог».
В предлагающейся вниманию читателей второй книге главное действующее лицо — дочь Карениной и Вронского, Анна. Повествование, кроме авторского предисловия, ведётся от её лица. Красивая, тонко чувствующая окружающий мир, она из простоватой наивной девушки с годами превращается в мать большого семейства и учёного-биолога. Её брат Сергей, продвигаясь по карьерной лестнице, становится прокурором. Но, такие близкие в детстве, с возрастом они отдаляются друг от друга. Читатель также узнает о жизни и смерти Алексея Александровича Каренина и графини Лидии Ивановны, о Стиве Облонском, племяннице графини Лидии Ивановны Наденьке, о семье графа Вронского и баронессы Шильтон.
Эта книга о российском дворянстве, об изменениях в его мировоззрении с течением времени. Сцены жизни и встречи персонажей в Санкт-Петербурге, Тарту, Таллине, Ниде, Вене, в Париже в последней четверти XIX века и в первые десятилетия XX века дают представление о скорости смены эпох. Однако сюжетной основой является роман Льва Толстого «Анна Каренина». Не повторяя его стилистически, Роман Госин в своей книге использует тот же семантический приём и метафору, что и у Льва Николаевича.
Кажется, никто ещё из огромной армии исследователей творчества Толстого не рассматривал роман «Анна Каренина» как книгу о домашнем вязании. Между тем, это именно такая книга. Впрочем, она у него не единственная. Роман «Война и мир» положил начало подобному толстовскому литературному приёму. В нём несколько раз упоминается о вязании. Вязанием спицами и крючком заняты различные персонажи. Оно приурочено к рубежным событиям жизни, предваряет рождение или смерть.
« — Ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса, — прибавила Анна. Бесом называлась между ними ревность. — Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было? <….> Да, но я не могу! Ты не знаешь, как я измучалась, ожидая тебя! Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива; я верю тебе, когда ты тут, со мной; но когда ты где-то один ведёшь свою непонятную мне жизнь…
Она отклонилась от него (от Вронского), выпростала, наконец, крючок из узла вязанья, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике.
— Ах, невыносимо! — сказал Вронский, стараясь уловить нить потерянной мысли. — Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего, — говорил он с досадой, заинтересовавшей её.
— Нет, как же? — возразила она. — Всё-таки он многое видел, образован?
— Это совсем другое образование — их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтоб иметь право презирать образование, как они всё презирают, кроме животных удовольствий.
— Да ведь вы все мужчины любите эти животные удовольствия, — сказала она, и опять Вронский заметил мрачный взгляд, который избегал его. Крючок в её руках начал нервно дёргаться».
«В первой детской Серёжа, лёжа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязаньем миньярдиз сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дёрнула Серёжу. Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены и спросил о том, что сказал доктор о baby».
«После рождения дочери она (Анна Каренина) держала в руках вязанье, но не вязала, а смотрела на него (Вронского) странным, блестящим и недружелюбным взглядом».
То, что Анна Каренина сидит с вязаньем, но не вяжет, неслучайно: очевидно она лишена дара «встречать живые души», приходящие в мир, и оказалась плохой матерью для своей дочери.
Само по себе вязание у Толстого имеет символический смысл: оно ассоциируется с нитью судьбы и со смертью. Этот мотив восходит к античному мифологическому представлению о мойрах, богинях судьбы, прядущих и обрезающих нить жизни человека. Вязание Анны соотнесено и с символическим образом Гордиева узла; в нерасплетаемый и давящий узел судьба сплела жизни Анны и Вронского. Сцена её вязания описана недалеко от сцены их ссоры и его попытки самоубийства. В отдалённой символической перспективе видна соотнесенность между вязанием Карениной и её гибелью: во сне Анны мужик ей говорит, что она умрёт родами. Она в родах не умирает, а разрывает узел жизни позднее. В рождении дочери, нелюбимой матерью, как бы заключено «зерно» смерти Анны.
Возникает вопрос — кем может вырасти лишённая в младенчестве материнской любви дочь Анны Карениной и Вронского?
Роман Госин избегает прямого ответа на этот вопрос, но явно противопоставляет её образ материнскому. При этом следует тому же толстовскому приёму. Он пишет, как и Толстой, о вязании. Подобно тому, как крючком создаются плетённые узоры, так и судьба плетёт нить жизни персонажей книги.
События, составляющие сюжеты книги, соотносятся между собой по-разному. В них несколько параллельных линий. Каждая из них разворачивается в своём временном ряду. Они сплетены с судьбой разных лиц, в том числе реальных исторических, и соприкасаются лишь эпизодически и внешне, но связаны автором с романом Толстого. Сюжетное время по-разному сориентировано относительно фабульного времени. В нём есть хронологические несовместимости, временные сдвиги в повествовании. Но первооснова книги, роман Льва Толстого «Анна Каренина», даёт право автору на повторение им подобного литературного приёма. Его трудно не заметить, точно так же, как авторские метафоры с вязанием и вводом в повествование новых действующих лиц. Среди них особо выделен второй муж дочери Карениной Анны и Вронского, Якоб Беккер. Он лишь к концу книги занимает место главного героя наряду со стареющим графом Алексеем Кирилловичем Вронским — главным героем первой книги «Пролог».
Образ Беккера многослоен и метафоричен. В нём отражаются временные сдвиги и технический прогресс на рубеже двух веков — XIX-го и ХХ-го, а также осуществляется соединение двух книг в единое целое и передача эстафеты поколений российского дворянства иному сословию, но без революционного взрыва. В этом проявился не стандартно-шаблонный, а индивидуальный, интересный литературный приём начинающего писателя, подготавливающего читателей к будущим двум книгам своего литературного эксперимента.
Анна Столярова
ПРОЛОГ
Глава 1
Прошло четыре года, как графиня Лидия Ивановна вместе с Аней с её гувернанткой Франсуазой переехала из Москвы в Петербург и поселилась в доме Алексея Александровича Каренина. В петербургском доме графини теперь жила её племянница Наденька. Она часто приходила в дом Каренина, когда была свободна от своих трудов воспитательницей в Смольном институте благородных девиц. В эти дни все собирались за большим столом как одна семья.
Алексей Александрович, приверженец строгости в воспитании, был доволен выбором гувернантки и тем, как всё обустроилось в его доме. Он с благодарностью смотрел на Лидию Ивановну и счастливо улыбался, что в прежние, уже, как казалось, далёкие годы за ним не наблюдалось. Теперь он исключительно держался общества Лидии Ивановны. В ней он нашёл особую дружескую нежность к нему. Благодаря ей он полюбил, как умел, Аню, несмотря на обидный для него указ императора об опекунстве.
Когда Аня ударялась, и у неё случалось «бобо», Каренин мягко тёр ей ушибленное место, дул на него и нежно целовал. Она в ответ обнимала его за шею, целуя в глаза, щекоча детскими губками веки. Она многого ещё не понимала, и оба были счастливы.
Серёжа учился в гимназии, был весёлым, смелым, решительным, с той упругостью движений, уверенностью в своём счастье и в том расположении духа, в каком всё кажется лёгким и возможным. На даче в Петергофе он любил играть в лапту, ездить верхом и ухаживать за лошадьми.
Любимой книгой Серёжи стала «Война и мир» Льва Толстого, а кумиром — князь Андрей Болконский. Иногда он вставал среди ночи, зажигал свечу и читал о том, как у Праценской горы на большом лугу упал князь Болконский с древком знамени в руках, истекая кровью, и мальчик, сам того не осознавая, стонал тихо, жалостно, по-детски. Серёжа Каренин знал этот текст наизусть. Он закрывал книгу, клал её под подушку, тушил свечу и молился. Молился за то, чтобы и он, как князь Андрей Болконский, стал героем войны. Серёжа засыпал и видел во снах себя на войне, видел, как скачет он на коне со знаменем в руках по полю боя. Так кто ж из отроков его возраста не мечтает об этом?
Он рос, наполняя свой детский мир скороспелыми и безудержными фантазиями. Всё замечал, угадывал, прислушивался к речам взрослых и, пользуясь всяким поводом, ускользал в свою волшебную действительность от надзора отца, учителей и графини Лидии Ивановны, не слишком считаясь с ними. Но при этом вёл себя чинно и старательно учился. Его почти никогда не наказывали, разве что оставляли без сладкого за какое-нибудь непослушание.
Что касается его сестры Ани, то её обучали игре на фортепиано, танцам, гимнастике, географии, математике, языкам и Законам Божьим. Она уже свободно говорила по-французски, и часто разговор шёл на этом языке. Но и у неё были свои маленькие тайны. Она влюблялась в мальчиков, в том числе и в сыновей домашней прислуги, однако эти чувства проходили быстро. Но это не скрылось от глаз гувернантки Франсуазы. Однажды она даже сказала Каренину:
— Вы знаете, что я на самом деле думаю? Но как же это по-русски сказать? Ани любвеобильна.
И действительно, уже в таком юном возрасте Ани обладала сердечной чуткостью и желанием любить. Ей также нравилось, когда изредка в дом приезжал её дядя Степан Аркадьич Облонский.
Для него Москва, несмотря на свои кафешантаны, была всё-таки стоячим болотом. Степан Аркадьич всегда это чувствовал. Если ему случалось прожить в Москве какое-то продолжительное время, это неизменно приводило его в уныние и состояние душевного упадка. Дурное настроение усугублялось семейными раздорами: частые упрёки жены, проблемы с её здоровьем, забота о воспитании детей, мысли о денежных долгах… Но стоило ему вернуться в Петербург в круг знакомых, которые жили — именно жили, а не прозябали, как москвичи! — и тотчас все скверные мысли таяли, как воск от огня.
В Петербурге дети не мешали жить отцам, а воспитывались в специальных заведениях. Не было здесь распространяющегося в Москве дикого понятия о том, что детям надо отдавать всю роскошь жизни, а родителям остаются труды и заботы о них. Здесь понимали, что всякий образованный человек обязан жить для себя.
И даже если бы эти два города поменялись статусами, как сейчас, суть не изменилась бы. А пока Петербург оставался столицей и физически приятно действовал на Степана Аркадьича, молодил его. В нём он всегда чувствовал — десять лет с костей.
Стива успешно продвигался в своих служебных делах, он возглавлял департамент. Общество, членом правления которого он состоял, ныне процветает. В России бурно строятся железные дороги. Это её жилы и скрепы ныне. А значит, нужно много шпал, свай и другого леса для них и для мостов. Он ведёт дело со всякого рода подрядчиками и деловыми людьми. Редко бывает неделя, когда бы он никуда не выезжал из Петербурга.
В столице день его насыщен банкетами, ресторациями, клубами, где при изобилии изысканной еды и вин мало едят и пьют, заботясь о своей печени, понимая, что Бог создал пищу, а дьявол — повара. Они много разговаривают, обсуждая вопросы, важные знакомства меж людьми энергичными. Они двигают Россию вперёд, будто это паровоз с регулятором Уайта или электрическая конка.
Изредка Стива встречается с Алексеем Александровичем Карениным. Эти встречи наполняют его воспоминаниями о сестре Анне. Он ездит в Казанский собор Петербурга помолиться за упокой её души. Иногда встречает там Каренина и графиню Лидию Ивановну, обнаруживая в них большие перемены. Графиня внешне помолодела, несмотря на видимую желтизну её лица и тела. Алексей Александрович, кажется, не меняется, лишь взгляд его, как у каждого человека, пережившего драму души, стал глубже, ушёл в себя. Племянник Серёжа повзрослел, вытянулся, возмужал. Он уже не рассказывает об играх в поезд. Заканчивает гимназию, мечтает о делах военных и славных.
После победы на Кавказе всем уже кажется, что так славно будет и впредь. Всегда так будет. Это же Великая Россия! Вечно молодая и вечно старая одновременно. И:
Боже, царя храни!
Сильный, державный
Царствуй на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
Для Серёжи Каренина это не просто гимн, а песнь песней! Однако отец не доволен им. Он хочет, чтобы Сергей пошёл по военной юридическо-судейской части. Он видит в нём военного прокурора в военно-судебном отделении Российской прокуратуры. Заставляет читать своды законов, проверяет постоянно свои задания и ждёт случая представить сына императору лично. Именно по книгам отца Сергей Каренин познакомился с революционно-политической историей своей страны. Он тщательно изучил все доступные документы различных покушений на царей и императорскую семью, хода их расследования, суда и приведения приговора в исполнение.
Если углубиться в историю, то первую проверку на прочность Военно-судебное ведомство испытало с наступлением политического кризиса в России. Усилилась роль военных прокуроров и судов, которые боролись с экстремизмом, а также с проявлением революционной активности.
По Военно-судебному уставу военный суд в мирное время рассматривал дела лишь в отношении военнослужащих и лиц, приравненных к ним, но в последующем их подсудность неизменно расширялась. Генерал-губернаторам было дано право объявлять в губерниях военное положение, и, как следствие дела, их территории переходили в ведение Военно-судебного ведомства.
Начало целой череде террористических актов положило неудачное покушение Дмитрия Каракозова на российского императора Александра II. Впоследствии на императора было совершено ещё несколько покушений. Затем, после покушения дочери отставного капитана Российской армии Веры Засулич на жизнь петербургского градоначальника Трепова, был принят закон о военном суде над гражданскими лицами. Начиная с этой даты, преступления, связанные с нападением на всех военных и полицейских, коль скоро нападения эти сопровождались убийством, нанесением ран, увечий, тяжких побоев и всяким участием в вооруженном сопротивлении власти, передавались в ведение военных судов.
Сергей Каренин продолжал с увлечением узнавать новое о своей стране и её гражданах, об отчаянных революционерах и мотивах их терактов, о грозных, но справедливых военных генералах, о процессе приведения приговоров в действие.
Глава 2
Начиная с окончания русско-турецкой войны на Кавказе военно-дипломатическая карьера графа Алексея Кирилловича Вронского пошла в гору. Ещё в начале XIX века практику официального обмена постоянными военно-дипломатическими атташе, не входящими в состав посольств и миссий, осуществили Россия и Франция, обменявшись личными адъютантами императоров (генерал-адъютантом и флигель-адъютантом).
Постоянная служба военных атташе была учреждена по указанию военного министра России Барклая-де-Толли. За рубеж были направлены первые постоянные армейские и морские офицеры в чине не ниже полковника или капитана первого ранга. Основной задачей военных атташе являлось ведение агентурной и разведывательной работы в государствах пребывания. Получение через своих агентов важных секретных сведений о вооружённых силах противников и союзников было поставлено на высокую профессиональную основу. Российская империя имела своих агентов в главных штабах Берлина, Парижа, Лондона, Вены, Рима и Константинополя. Все получаемые от них сведения о вооружённых силах государств сосредоточивались в особом разведывательном бюро и в военно-учёном комитете главного штаба армии России.
Служба военных атташе по вербовке агентов и получения необходимых сведений была исключительно трудной и напряжённой. Она требовала большого жизненного опыта, профессиональных знаний и личных качеств. На протяжении десяти лет военно-дипломатической службы граф Вронский безупречно выполнял свои обязанности в особом разведывательном бюро в военно-учёном комитете главного штаба, и в звании генерал-майора кавалерии был назначен главным военным атташе России в Вене. На его погонах золотом был вышит вензель императора Александра III.
Семья Вронского выросла, родилось ещё двое детей — сын Кирилл и дочь Николина, которую родители звали Никой. Финансовое положение упрочилось. Тут нужно отдать должное баронессе Вронской-Шильтон. Она вела все семейно-хозяйственные дела.
Полина Николаевна предложила мужу обменять все сто процентов акции российской компании «Клинские Нивы», выпускавшее пиво с тем же названием, на десятипроцентный пай в товариществе Шустовых. Узнав все подробности дела, придуманного Полиной Николаевной, он полностью их одобрил и доверил ей осуществление этой сделки.
Род купцов Шустовых ведёт свою купеческую родословную со времён Петра I, когда они начали заниматься соляным промыслом. Полина Николаевна была знакома с купцом Николаем Шустовым. Он жил в Москве, где и располагались его предприятия. На рубеже XIX — XX веков реклама шустовской продукции буквально заполоняла российскую прессу, представляя во всей красе ассортимент напитков. Сочинялись песни и слагались оды, прославлявшие разнообразные настойки и наливки, коньяки и водки под названиями «Московская», «Старка», «Перцовая», «Зверобой», «Плясовая», «Похмельная». Шустовы нанимали студентов, ходивших по кабакам во всей России и требующих «Шустовскую» к столу, не называя никак иначе их водки.
Николай Николаевич приобрел коньячный завод у Нерсеса Таиряна в Армении в Эриванской крепости и преобразовал его в Ереванский коньячный завод. Младший брат Николая Николаевича, Василий, был отправлен во Францию, откуда он привёз рецептуру и технологические карты производства французских коньяков. В тот же год братья выкупили акционерное общество черноморского виноделия. Образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку и получили Гранд-при. Они стали единственными не французскими виноделами, получившими право печати слова «cognac» на этикетках, несмотря на то, что их коньячный напиток, в соответствии с правилами, был больше похож на бренди.
Шустовы выпускали треть всей алкогольной продукции в стране. Полина Николаевна составила с адвокатом Анатопулусом предложение об обмене акций. К нему она приложила собственноручное письмо, где сообщила старшему Шустову о том, что её муж граф Вронский участвовал во взятии Эриванской крепости, а также то, что она готова финансировать выпуск дижестивов в случае согласия на обмен акциями.
Дижестивы в России никогда не производили, и мало кто о них знал. Через пять дней после отправки предложения и письма нарочным Полина Николаевна получила телеграфную депешу. В ней было всего лишь одно слово: «Согласны» и подпись: «Шустовы».
Русское общество ещё жило дворянской моралью — оно предпочитало держаться подальше от промышленности. Это-де дело нечистое. Настоящими занятиями, достойными мыслящего дворянина и интеллигента, считались игра в карты, распитие водки и вин, а также жалобы и ругань в адрес правительства. Сложившиеся в среде отечественного купечества традиции оформления различных контрактов и сделок обходились без их юридической регистрации, ограничиваясь словесной договорённостью. Купец если уж сказал своё слово, то точка, больше ничего не надо.
По прошествии трёх с половиной лет в дорогих ресторанах в конце обеда метрдотели бесплатно приносили каждому участнику обеда маленькую бутылочку, завёрнутую в красивую плотную бумагу, лично от хозяина ресторана. Посетители снимали обёртку с простой зелёной этикеткой и видели бутылку дижестива с другой красивой этикеткой и надписью на французском языке «Вaronne Polina». Ниже шло перечисление городов: London City, Paris, Rome, Genève, Berlin, Vienne, Prague, Varsities, Cracovie, Budapest, Saint-Pétersbourg, Moscou. На этикетке с другой стороны бутылки для каждой страны на её языке были указаны основные ингредиенты.
В России дижестивы продавались в магазинах товарищества братьев Елисеевых. Полный рецепт и технологические карты хранились в Банке Англии, выполняющем функции Центрального банка Великобритании. Российское дворянство и купечество всегда были неоднородны, ведь все люди разные.
Глава 3
Зимнее петербургское утро. Пухлыми непрерывными хлопьями падает снег. С Гагаринской набережной видны очертания Васильевского острова, мосты, придавленные снегом ёлки, стены Петропавловской крепости. Блестит шпиль собора. Правее него — спутанные линии крыш на Петровской набережной, а на Выборгской — в смутной пелене далёкие фабричные трубы.
Швейцар Селифан окончил чай в своей каморке. Он протёр и прибрал посуду, сладко зевнул, потянулся, не спеша напялил на своё откормленное тело коротенький кавалерийский полушубок и, отомкнув зеркальные двери подъезда, вышел наружу. Младший дворник, рыжий мужичок со скуластым коричневым лицом, в засаленной поддёвке и в фартуке, отметал снег.
— Снежит, Селифан Евлампыч, — почтительно кланяясь швейцару, сказал он.
Швейцар прикоснулся к своей фуражке с галуном, постоял, посмотрел, прищурившись, на Неву, сделал неодобрительное лицо и начал чистить шинельной суконкой гладкое медное яблоко звонка.
— Отчего это, Евлампыч, господа спят долго? — спросил дворник, опираясь на метлу. — Я вот у купца Калашникова жил, мы эфтого от них не видали, страсть как рано поднимались. У них ткацкое дело и в Московской губернии, и в Троицке, и в Ивантеевке, и в Иваново, и тута на Выборгской стороне. Али вот, насчёт сна… Ведь сна у них совсем нет. Ты спишь, а он, окаянный, ночью приволокётся в конюшню, разбудит тебя, нашумит. Потому у них сна нету, они, Калашниковы, двужильные бойцы.
— Вот и вышел дурак! — важно проговорил швейцар. — То купцы, а то — господа!
— Что ж купцы? Чай, естество-то одно. Мясо и кости.
— Эва, махнул! А у тебя не одно естество с князями?
— Об нас что толковать, — продолжил дворник, — коли из мужиков, так уж из мужиков. А я вот нащёт купечества. Какие есть несметные богачи! Побогаче буде нынешних-то князей вашенских. А вот, подишь, встают-то ранёхонько, ещё затемно, а они уже на ногах.
— Да купец-то, по-твоему, не мужик? — парировал Селифан. — Деды его ошмётками лаптей щи хлебали, а он разжился, в каретах ездит ныне-то, как барин. Но всё ж таки как его ни поверни, всё чёрна кость. Обдумал что сказать-то? Естество! Ты видал ли когда тело-то барское, какое оно из себя? Да знаю, не видал и не увидишь!
— А что? Не из мяса разве? Не из сена же или соломы?
— А то! Сам ты сено-солома! Барское тело нежное, белое, вроде как рассыпчатое, самые прожилки-то по нём синенькие. Али голос возьми у настоящего барина. У него и голос-то благородный, вальяжный такой. Сравнял!
— Ну пущай, Селифан Евлампыч, пущай… Я только вот о чём — с чего они спят-то так долго?
— А с того и почивают, что князья. И потом женский быт. В женском быту завсегда, брат, спится крепче. Кабыть работа…. А ты думал — нет? Вот вчерась княгиня с визитами ездили — раз; перепрягли лошадей, на Морскую к французихе поехали — два. Оттедова, Господи благослови, в приют на Васильевский остров — три. Из приюта за молодым князем Юрием Константиновичем — четыре. А вечером в синхфоническую собраню, на музыку. Вот и понимай, деревенщина, какова княжеска работа.
Дворник хотел что-то сказать, но только крякнул, поплевал на руки и с остервенением стал действовать метлою. В это время из подъезда выбежала молоденькая горничная.
— А! Фрося Митревна! Наше вам. На погоду взглянуть? — спросил у неё швейцар Селифан, игриво осклабляясь.
— С добрем утречком, Селифан Евлампыч! У-у, снежище-то какой! — Горничная вздрогнула плечами и спрятала руки под фартук. — Силиафан Евлампыч! Барышня приказали, мол, приедет мадам певица, не принимать, им сёдни нездоровится.
— Что так? Аль намедни в санях простудимшись?
— А кто их знает! Встали рано, читают в постели письмо. Кажись, шестой раз читают. Вчерась утром почтарь привозил. Сказал, с Парижа. А щас они говорят, скажи, говорят, внизу, говорят, что французской певице приёму нынче нет. Плачут.
— Ладно, — махнул рукой Селифан. — Княгиня как? Вчерась поздно вернулись. Почивают ишо иль кладут пасьянс?
— Почивают, почивают ишо. Григорий Коскентиныч только кофеи откушали, должно в казармы поедут, халат переодели, щас спустятся. Юрия Коскентиныча немец будить пошёл. То-то хлопоты их будить! То канделябром в немца пульнут — страсть! А то и брыкаться начнут, беда! Бить немца ногами затеют, но тот хваткий. Иногда думаю, как это он ишо Юрию Коскентинычу ноги все не повыдёргивал?
— Селифан! Селифан! — повелительно прозвучал наверху лестницы тот благородный княжеский голос с приятным и важным рокотанием в горле, о котором швейцар только что рассказывал дворнику.
Он торопливо отворил двери подъезда, вошёл скользящею и беззвучною походкой в сени, вытянулся, сняв фуражку. Горничная, повиливая всем корпусом и не вынимая рук из-под фартука, побежала наверх. Навстречу ей по позолоченным перилам лестницы быстро спускался плотный, белотелый, чернобровый молодой человек с блестящими глазами навыкате, в синей уланке, в кавалерийских рейтузах и сапогах со шпорами. Он ловко катился по перилам, подняв кверху руки. На площадке лестницы присвистнул и с гиком спрыгнул с перил. Щёлкнул каблуками, закричал притворно строгим голосом: «Эта-тэ, что несёшь под фартуком?», схватив за руку горничную и ущипнув её. Та взвизгнула, вырвалась и убежала с румянцем стыда и счастья на лице. Он молодецки шевельнул плечом, засунул руки в карманы рейтуз и, напевая из оперетты «Дочь Мадам Анго» Шарля Лекока «Я был влюблён», сошёл вниз к дверям. На лице швейцара заиграла улыбка.
— Снежищу-то по колено, Селифан? — сказал молодой человек, смотря выше швейцара.
— Так точно, вашество, и всего одиннадцать с капелькой градусов.
— Скажи Илюшке, чтоб Летуна заложил, и попроворнее.
— Слушаю-с, вашество. В бегунцы синие прикажете?
— Да-да, пусть в эти бегунцы заложит.
— Слушаю-с, щас, мигом!
Молодой человек ещё хотел что-то прибавить, но вместо этого промычал, значительно пошевелил выдвинутою нижнею губой и, продолжая напевать, подошёл к зеркальным стёклам подъезда. За ними виднелся рыжий малый с метлою.
— А!? Кто такой? — спросил он.
— Младший дворник, вашество, с неделю тому нанят, — и швейцар улыбнулся своему разговору с дворником.
— Ты что смеёшься, а?
— Деревенщина, вашество, всё по купцам живал. Удивляется.
— Чему удивляется?
— Удивительно ему, как живут князья и как купцы. Мужик!
Барчук вдруг схватил Селифана за пуговицу полушубка. Он с оживлённым, наивно-детским выражением на лице сказал своим поставленным голосом, приглаживая волосы:
— Я не понимаю, Селифан, отчего мы до сих пор не берём людей из Анненского? Почему нанимаем от разных купцов и тому подобных, а? Вот я понимаю тебя. Ты из гусарского полку, вахмистр при конских хвостах и тому подобное. Ты знаешь, скоро выйду в Императорский личный лейб-гусарский взвод, а вокруг никого из своих! Только из Анненского у нас Илюшка, и больше никого. Горничные у маман немки и французихи, у сестры Фроська эта, деревня рязанская, — он кивнул подбородком в сторону лестницы. — А я люблю, чтоб все были наши. Понимаешь? Это настоящий княжеский дом, когда собственные люди. Это делает тон. Вон как у графа Толстого в Ясной. Ты знаешь нашего анненского повара? Он пироги придумал с яблоками, ими графа Толстого каждый день потчуют.
— Никак нет, вашество, не видел.
— Великолепнейший повар, а? Папа воспитывал его в аглицком клубе. Я тебе скажу, братец, какое он фрикасе из куропаток делает… — молодой князь закатил глаза. — Вкуснотища, умереть можно! Но вот живёт в деревне, болтается, пьянствует.
— Когда изволите, вашество, в вотчину прокатиться, тогда и покушаете всласть.
Молодой князь быстрым движением прошёл вдоль сеней и уселся на резной дубовый стул около пылающего камина.
— В том-то и дело, милейший мой, — сказал он, понижая голос и совсем дружелюбно вглядываясь в лицо швейцара, — в том-то и дело, братец, что любезнейшая сестрица со своими нервами… Вот бабы, а? Не по-нашему, брат, не по-княжески! Чуть что — ах, маман! Ах, ах, за доктором, в аптеку и за границу! И обязательно в Париж! Других городов у неё нет, — он сделал кислое и жалобное лицо, передразнивая кого-то. — Понимаешь, Селифан, я говорю — отлично, поезжайте, чёрт побери, с вашею плаксой в ваш Париж! А я не могу, у меня императорская служба, я, владелец имений, должен быть в Анненском, в Орловском, в Чёрной Грязи. Юрию пятнадцать лет. Позвольте спросить, кто же хозяин? Ведь воруют там. И почему ж не воровать? Маман ничего не смыслит в хозяйствовании! Я отлично понимаю — прежде, бывало, наворует, но он всё-таки крепостной. Я всегда могу от них конфисковать, и тому подобное. Но теперь наворует — и фьють! Ищи свищи его, а? А управляющие имений? Да они всегда воровали! На то они и управляющие. Если уж губернаторы завсегда в России воровали, так этим сам Бог велел. Вот Сечин Игорь Иванович, например, управляющий Чёрной Грязью, тридцать лет служит, можешь вообразить, сколько он наворовал! Иван Палыч Чичичков, маменькин управляющий в Орловском! А что он делает там? Продаёт и покупает наших породистых орловских лошадей, продаёт и покупает, живых падшими числит и снова их продаёт. Крутит ими, как на каруселях, и всё от чего? От того, что всё безотчётно. Ты знаешь, сколько он за сорок лет наворотил, сколько денег наших потратил и сколько в карман свой положил?! Как тебе это покажется, а? Но я намерен всё это привести в порядок, бац — и порядок! — в лице его выражалось величие и даже что-то марсовое, военное. — Селифан, я тебя возьму в конюшие, а! Хочешь?
— Рад стараться!
— Хочешь, с Фросей сведу, женишься, приданое за неё дам? Она девка хорошая, только Дарья, сестра, портит её своими фантазиям. Влюбилась в Потёмкина, теперь, как и он, хочет Россию переустроить, а до наших вотчин ей никакого дела. Ну как? Возьмёшь Ефросинью в жёны? Я маман скажу об этом. Каморку твою оставим тут для службы, а спальня вам во флигеле будет. Детей сделаете. Будут и в столице, и в этом доме наши люди. Сегодня понедельник, вот в пятницу и обручитесь. Ну как, согласен?
— Вашество, уж больно скоро!
— Так ты согласен или нет?
— Вашество, как прикажете! Мне она нравится.
— Вот и договорились! А я что? Решил так. Послужу ещё тройку лет в кавалерии, терпеть не могу эту пехтуру! Ну и потом, потом… — он на мгновение задумался. — Потом генерал-полковником Его Императорского Величества свиты выйду в отставку. А? А ты как думаешь! Мы, князья Орловы, не чета иным всяким Потёмкиным!
— Чего лучше, вашество, — с серьёзнейшим видом согласился Селифан.
И молодой князь широко открытыми великодушными глазами посмотрел на швейцара.
— Так я тебя беру, братец, можешь рассчитывать. Анненское Юрию не отдам, пусть берёт Орловское… Ты знаешь, Орловское родовое, и он младший. Но оно гораздо, гораздо хуже Анненского, а? Сестре по завещанию достаётся лес и Чёрные Грязи, всё равно она выйдет замуж, а ей другого и не надо. У маман приданое. Есть ещё её вдовья доля. Вот, братец, совсем не понимаю, для чего бабам состояние? Но ты замечаешь, как я отлично всё знаю? О! Не беспокойся, меня не проведут!
Он помолчал, взял с подзеркальника развёрнутую газету «Петербургский вестник», но, вновь охваченный потребностью откровенности, отбросил её и, с наслаждением погладив себя по коленке, сказал:
— Да, братец, сначала в генералы, а может, и в фельдмаршалы! Вот так! Прочитаешь завтра в своей газетке-то: «Князь Григорий Орлов вчера за отличие произведён императорским указом в ротмистры». Обрадуешься?
— Точно так-с!
— Обрадуешься, когда в той же газете прочтёшь, что Григорий Константинович Орлов взял в жёны графиню Анну Вронскую-Каренину? Самую интересную невесту из всех невест ныне. У неё в глазах… — он зажмурился и ударил себя по коленке. — Я её вчера в театре видел. Ох, как хороша собой… Весёлая! Влюблён! Влюблён! Понимаешь, Селифан, влюблён, аж на стену лезу!
Селифан украдкой покосился на круглые часы, вделанные в тёмно-красную в помпейском стиле стену, и добавил:
— Осмелюсь доложить, вашество, не прикажете ли закладывать?.. Четверть десятого… Матушка княгиня прогневаться на вас изволят и меня накажут.
С лица будущего генерала императорской свиты или российского фельдмаршала мгновенно сбежало наивно-доверчивое и великодушное выражение. Он прокашлялся в кулак.
— Да-да, братец, прикажи, — сказал он гортанным басом и с небрежным видом направился к дверям подъезда.
Швейцар, взглянув на юного князя, тотчас же уловил его намерение выйти наружу и отчётливым, неслышным движением распахнул двери. К тому, что Григорий Константинович, не одеваясь и с обнажённою головой, выходил на холод, швейцар, как и все в доме, давно уже успел привыкнуть.
Рыжий дворник по-прежнему разметал снег. Молодой князь рассеянно посмотрел на пустынную набережную, на белую равнину Невы, перевёл свои выпуклые глаза на дворника. Вдруг, побагровев до самых воротничков, он закричал гневным, раскатисто-командирским голосом:
— Эй! Шапку долой! Эта-та что такое?! Шапки не ломаешь? Шапку долой!!! — он замахнулся, сжав кулак. — Я тебя научу, ррракалья! Долой!
Рыжий дворник торопливо сдёрнул свой ватный картуз, с испугом и удивлением уставился на молодого князя. Тот круто повернулся, повёл широкими, точно для густых эполет созданными, плечами и твёрдым шагом, грудью вперёд, звеня шпорами, вздрагивая на ходу туго обтянутыми икрами, спустился по ступеням крыльца. «Орёл!» — подумал Селифан, провожая восторженным взглядом «вашество».
Глава 4
Дарья, сестра Григория Орлова, сидела на кровати в своей спальне, облокотившись на пуховые подушки. Она читала письмо от Мити Потёмкина, точнее, от князя Дмитрия Александровича Потёмкина, правнука князя Потёмкина Таврического, в которого была влюблена, и он отвечал ей взаимностью. Князь писал ей из Парижа:
«Итак, Дарья Константиновна, наконец я в Париже. Но не думайте, однако, что много расскажу. Знаю, столько уже перечитали о нём, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же Вы сами в нём были много-много раз и всё лучше меня заметили. Да, я терпеть не могу быть за границей. Но Париж — это самый замечательный город на всём земном шаре. Что за порядок! Какие определённые и прочно установившиеся отношения. Как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны. И уверили себя в этом, а потому совершенно счастливы! Да, Париж удивительный город. Комфорт, всевозможные удобства, в Лондоне их не меньше. Вы были в Лондоне, Дарья Константиновна, Вы его знаете, наверно, если хоть раз сходили ночью в Гай-Маркет. Это квартал, где по ночам в некоторых улицах тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа и электричества, о которых у нас не имеют понятия. На каждом шагу великолепные кофейни, украшенные зеркалами и золотом. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена! Тут и старухи, тут и красавицы. Перед ними останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки (не ревнуйте меня, Дарья Константиновна, хочу быть объективным). Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Всё это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды, и почти лохмотья, и резкое различие лет — всё вместе! В этой ужасной толпе толкается пьяный бродяга, сюда же заходит титулованный барон или герцог. Тут я встретил двух лордов и нашего военного атташе, князя Безухова.
И вот раз ночью среди этих потерянных женщин и развратников остановила меня другая женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета во всё чёрное, на голове у неё была шляпка, почти полностью закрывавшая её лицо. Я толком и не успел разглядеть его. Помню только пристальный её взгляд. Она сказала что-то на ломаном французском, я не мог разобрать слов, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее.
У освещённого окна кофейной я рассмотрел бумажку. Это был маленький квадратный лоскуток. На одной стороне его было напечатано «Crois-tu-cela», что по-русски означает «Аз есмь воскресение и живот». И ещё несколько таких же известных строк на нескольких языках. Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. На улицах раздают то эти бумажки, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Это пропаганда тонкая и расчётливая. Католический священник сам выследит и вотрётся в бедное семейство какого-нибудь работника, или в семейство богатого греховодника, или греховодницы. Найдёт, как это сделать. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнёт лечить больного, купит лекарство, сделается другом дома и под конец обратит всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не сдаётся и идёт к другим. Его и оттуда вытолкают. Он всё снесет, но уж кого-нибудь да уловит.
Англиканский же священник не пойдёт к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными зачастую незаконны, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно уродуют своих жён, бьют их до смерти и больше всё кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже специальный инструмент для битья. По крайней мере, в газетах при описании семейных ссор, увечий и убийств всегда упоминается кочерга.
У нас так не делают. У нас если уж муж стукнет жену, то простой оглоблей. Дети у них чуть-чуть подрастут, и тогда как девочки, так и мальчики зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям.
Англиканские священники и епископы горды и богаты. Живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьёзно верят в своё нравственное достоинство, в своё право в самоуверенную мораль жиреть и богато жить тут.
Это религия рациональная и без обмана. У этих убеждённых до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава. Это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут вглубь Африки, чтоб обратить одного дикого и забывают миллион диких в Лондоне за то, что тем нечем платить.
Я пишу Вам, Дарья Константиновна, потому что уверен — у Вас благородное сердце, острый ум, и Вы понимаете ответственность наших двух великих российских дворянских родов за будущее нашей страны. За будущее наших детей. Мы должны сделать всё, чтобы Россия не подражала Парижу и Лондону. У нас с Вами свой путь!
Искренне Ваш, Дмитрий Потёмкин».
Княжна Дарья Орлова строчку о детях читала седьмой раз, заливая её слезами. Она беззвучно сползла с постели и встала на колени. Слёзы экзальтации горели в её огромных глазах. Как хорошо страдать и плакать жгучими слезами, уносясь ангелом к Богородице! Княжна начала неистово молиться, вкладывая в это действо все силы своей души, все свои распалённые чувства. Закончив молитву, она три раза широко перекрестилась, поднялась, поцеловала икону, поправила лампаду, снова встала на колени и заплакала.
Её горничная Ефросиния смотрела на эту сцену в приоткрытые двери с внутренней стороны покоев княжны. Держа руки под фартуком, она время от времени вынимала их поочерёдно, смахивая свои слёзы, не зная, от чего они у неё текут, и шмыгала покрасневшим носом.
Княжна Дарья поднялась, повернулась к ней и властным твёрдым голосом приказала готовить ей туалет, трюмо, расчёски, пудры и одежду на выезд.
— Сходи к Селифану и скажи, чтоб готовил мой выезд. Пусть дадут овса Тоби и запрягают его. Сама оденься в праздничное. Поедешь со мной к Зимнему в собор Спаса Нерукотворного. Иди, оставь меня.
Княжна Дарья, в чём была, вышла из своей спальни и пошла к маман. Та ещё не встала с постели, но уже не спала. Княжна присела к ней на кровать и с места в карьер объявила:
— Я решила окончательно. Выхожу замуж. — Маман от неожиданности выпучила на неё глаза и замерла. — За князя Дмитрия Александровича Потёмкина!
Маман упала в обморок, свалившись на подушки. Княжна Дарья резко встала и вышла из спальни, громко хлопнув тяжёлой дверью. Горничная немка смотрела на неё с ужасом.
— Помоги маман! — властно распорядилась княжна. И чуть ли не бегом кинулась одеваться к выезду.
«Слава Богу!» — думала она, кутаясь в связанную ею самой пуховую шаль, сидя в зимней карете и спеша в собор. У неё есть теперь во что вложить свою душу и за что можно отдать свою жизнь… У неё будут дети! Митя не обманет! Он любит её. Он не такой, как все князья Потёмкины. Дмитрий Александрович благороден, красив, умён и честен. И он влюблён в неё.
Она поспела к началу молебна. Несмотря на торжественность службы, в душе княжны Дарьи поднялась волна печали. Она умела скрывать свои чувства от посторонних, но, на самом деле, была очень эмоциональной и чувствительной девушкой. Дарья любила французские романы, часто помогала бедным и мечтала посвятить свою жизнь мужу и детям. Красота души заменяла ей красоту лица, коей она была обделена. Княжна унаследовала густые отцовские брови, имела привычку краснеть при разговоре, в ней не было необходимой доли кокетства и женственности, чем-то она даже была неуклюжа. Княжна Дарья не интересовала никого, кроме Дмитрия Потёмкина. Он один смог заглянуть в её душу, и он один смог понять все её мечты, и теперь искренне хотел разделить их с ней, о чём писал в своём письме из Парижа.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Мне потребовалось много лет, чтобы узнать всё то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе своего пути в жизни. Никакого трагизма в своём положении я никогда не ощущала. Наоборот, чувствовала ежеминутную радость просто от того, что живу. Не зря говорят: по-настоящему ценишь только то, что у тебя в любую минуту могут отобрать.
Начну с того, что я росла без матери, и отцовская любовь ко мне углублялась сознанием им своей ответственности за меня. Нежной заботой обо мне и моих детях он старался возместить потерю мамы. Она умерла, когда я была совсем, совсем маленькой, ещё до того, как узнала, кто мой отец. Он никогда мне не говорил о ней, тихо отворачивался, если я сама заводила разговор о маме. Так что я поняла — эта тема для него слишком мучительна.
Все, кто знал мою маму, говорили, что я удивительно похожа на неё внешне: и фигурой, и лицом, и разрезом глаз, и их цветом. Но в остальном мы противоположности. Впрочем, я смело могу сказать, что матерью мне стала жена отца, баронесса Полина Николаевна Вронская-Шильтон. Она для меня мать в том смысле, что не было рядом со мной другой женщины-друга со столь открытым сердцем и душой. Конечно же, я хорошо помню и другую женщину, стремившуюся тоже стать моей матерью. Она была графиней, и звали её Лидией Ивановной.
В детстве я часто болела. Графиня Лидия Ивановна не признавала никаких докторов, кроме доктора Слюдина, тщедушного, с козлиной бородкой и хриплым голосом, родного брата управляющего делами Каренина. Человеком он был неглупым, образованным, нашёл у меня английскую болезнь и велел ежедневно пить рыбий жир. Меня им поили до десяти лет. Мне казалось, что я пропахла рыбьим жиром вся насквозь. С тех пор я невзлюбила доктора Слюдина и графиню Лидию Ивановну. Возможно, единственной пользой от рыбьего жира оказались мои красивые зубы. Они никогда у меня не болели, в отличие от моего родного отца, и сохранили свой блеск до моей глубокой старости.
В детстве у меня часто болело горло. Меня заставляли полоскать его тёплой водой с мёдом и солью. Помогала мне в этом моя няня Лена Леонидовна. Графиня Лидия Ивановна привезла её из своего поместья Ерёмичева Чухломского уезда.
Няню Лену все звали Мамленой. У неё был сын Лёня, мой ровесник. Она завязывала мне компрессы на горле, укутывая их на шее тёплыми шерстяными серыми платками, а Лёня стоял рядом с ней, держась за её юбку, и смотрел на то, как ловко она это делает. Иногда он просил меня: «Покажь свой язык до горла». Я послушно открывала рот перед ним как можно шире. Он, вставая на цыпочки, тянул свою шею, заглядывая мне в горло. Потом важно объявлял: «Язык как сметаной обмазан, а сиськи в горле с двух сторон красно-фиолетовые и большие. Зубы у тебя красивые, чистые, блестящие». Лёня был маленького роста и очень худой, а Мамлена была большой, круглой и гладкой, как буква «о», на которую все в Чухломе делают ударение. Сама Мамлена не очень сильно окала, зато у неё были круглые плечи и ямочки на щеках. Она никогда не была замужем. Леонидовне было тридцать два года, а сыночку её, Лёнечке, пять лет, и она мне всегда говорила, припадая на букву «о»: «Для себя его родила, для себя, не для кого-то. Детей нужно рожать для себя. Без них нам, бабам, жить нельзя, да и грех — жить бабской жизнью без детей. Ты вот, Анюточка, ещё маленькая девочка, вырастешь барыней знатной, а всё равно бабой останешься. Тогда и поймёшь сама об этом главном женском деле». Так что о своём женском предназначении я узнала в раннем возрасте, не понимая всё-таки, о чём идёт речь. Но никого из взрослых об этом не спрашивала.
У графини Лидии Ивановны были свои представления о моём воспитании до замужества. В строгости меня держала: в половину седьмого зимой и осенью, в восемь часов вечера летом, бывало, велит помолиться и идти спать. Посмотришь в окно — там гуляют наши дворовые дети. Помолишься перед образом Христа распятого, поревёшь немножко в подушку и всё. Надо — значит надо! Алексей Александрович Каренин, про которого я в то время думала, что это мой отец, не вмешивался. Он был слишком занят и поглощён своей государственной работой.
Мой брат Серёжа был старше меня на семь лет. Он редко со мной играл, и казалось, что он всё время о чём-то думает. Когда человек всё время о чём-то думает, значит, что для него это важно.
Из дворовых детей мне нравился сын кухарки Павлик. Почему нравился, не знаю. Лицо у него было веснушчатым, волосы рыжими, глаза голубыми. Он обычно улыбался или громко смеялся по любому поводу. Умел ходить на руках и любил показывать фокусы, самостоятельно их придумывая. Я с ним играла в секретики.
Однажды он подошёл ко мне и громким шёпотом, прикрывая рот рукой и щуря глаза, заговорщически спросил:
— Хочешь, я покажу тебе свой секрет?
— Конечно! — сердце моё ликовало.
— Идём.
Озираясь по сторонам, мы шли через весь двор. Под большой елью я увидела торчащий прутик. Павлик посмотрел на меня и торжественно сказал:
— Поклянись, что никому не расскажешь об этом.
Я перекрестилась:
— Вот те крест! Никому-никому не расскажу! Клянусь!
Он сел на четвереньки и стал делать пальцем круговые движения в земле на месте прутика. И тут моему детскому взору открылась необыкновенная, волшебная красота! Мне казалось, что в своей жизни я ничего краше не видела. На перевёрнутой крышке от коробочки французских леденцов «Монпансье» моей гувернантки Франсуазы были разбросаны маленькие цветочки и бусинки, а сверху всё это великолепие было накрыто синим стёклышком. Я замерла от восторга, хотелось смотреть и трогать это чудо ещё и ещё, но Павлик торопливо засыпал всё обратно землей.
— Хватит, а то кто-нибудь увидит.
— Как краси-и-иво! А можно мне потом ещё посмотреть?
— Можно, только смотри, чтобы никто не заметил тебя, особенно мальчишки.
— Меня никто не заметит. Буду прятаться, — наивно ответила я.
С этого момента я поняла — мы с Павликом друзья. Ведь только другу можно доверить свой секрет. Мне захотелось отблагодарить его, показать ему и свои секреты, может, даже лучшие. И я сделала свой секрет.
У меня было маленькое круглое зеркальце в деревянной ореховой оправе. Я смотрела иногда с его помощью свой язык и гланды, когда у меня болело горло. Для этого зеркала я выкопала позолоченной ложечкой для пирожных ямку неподалёку от большой сосны во дворе и положила зеркало в неё. На зеркало уложила яркий цветок одуванчика, по краям — лепестки ноготков, внутри несколько пуговок, а сверху накрыла бутылочным стеклом и присыпала всё вместе землёй. Конечно же, первым делом я показала его Павлику. Он одобрительно кивнул. До вечера мы бегали то к его секрету, то к моему, следили, не случилось ли чего с ними.
Однако детская душа требовала острых ощущений, поэтому я подошла к своему старшему брату Сергею.
— А у нас с Павликом есть секреты, ну таки-и-и-е секреты! Но мы тебе не покажем их ни за что!
— Ой, ну какие у тебя могут быть секреты? Я эту игру знаю. Барахло какое-нибудь закопала, — презрительно ухмыльнулся брат, сплюнув на землю.
Но червь сомнения всё же точил его изнутри: а вдруг и правда что-нибудь стоящее?
— Ну, покажи, — сказал Сергей.
— Ни за что!
Сергей знал все закутки нашего с ним двора, он перерыл всю землю, но так и не нашёл наши секреты.
Назавтра я побежала в очередной раз проверить свой тайник. Всё было на месте. Я успокоилась и обрадовалась. На следующий день подошла к дереву и увидела пустую ямку на месте своего секрета и разрыдалась. Пошла к Сергею.
— Я ж говорил, ерунда! — смеялся Сергей, когда я пришла к нему. — Мне Павлик показал твой тайник, когда я ему пообещал подарить линзы от морского бинокля.
— Подарил? — спросила я сквозь слёзы.
— Нет! Я что, дурак, что ли, как он? Мне самому они нужны.
В своём горе я была безутешна. Жизнь так жестока! Мой единственный родной брат разрушил красоту, которую я с такой любовью создавала. И виноват в этом был мой друг. Это был урок двойного предательства в моей жизни. С тех пор я никогда никому не рассказывала о своих секретах. А их было много.
Что касается моего брата Сергея, то он ни в чём не похож на меня, а я на него. Мы и внешне не похожи с ним друг на друга, не похожи характерами, и даже фамилии у нас оказались разные, не говоря уже о сословных титулах и всей дальнейшей жизни.
На получение мной высшего образования мой родной отец, Алексей Кириллович Вронский, денег и сил не жалел. Но до того как я узнала, кто мой настоящий отец, я училась дома, вплоть до пятнадцати лет. Графиня Лидия Ивановна нашла для меня учителей. Во флигеле была устроена для меня классная комната. Меня учили французскому, немецкому и английскому языкам, географии, математике, игре на рояле и танцам. Алексей Александрович Каренин не решился обратиться с просьбой о приёме меня в Смольный институт, боясь отказа. В итоге получилось так, что по-русски я писала полуграмотно, а познания мои по всем предметам, кроме музыки, оказались весьма ограниченными.
Моя гувернантка Франсуаза учила меня всему тому, что знала сама. С ней мы говорили только по-французски. Она следила за моей диетой и фигурой. Учила, как правильно держать тело, носить пояса для пристёгивания чулок, самостоятельно совершать туалет, причёсываться.
У нас с ней была тайна. Так как её комната была рядом с моей, то она разрешала мне лежать с ней вместе в одной постели в ночной сорочке и читать на ночь французские романы для взрослых из тех, что читала сама. Иногда объясняла в них то, что мне было непонятно.
Мы часто обсуждали прочитанное. Выясняли, кто кому понравился, и как каждая из нас поступила бы на месте той или иной женщины. А началось это давно, с того раза, как она прочла мне на французском языке сказку Шарля Перро «Синяя Борода» и предложила выучить её наизусть. Мы начали читать эту сказку на разные голоса, чтобы я быстрей её выучила. Сказка была страшная, и после неё мне снились кошмары. В моих снах Франсуаза была женой Синей Бороды, я была её сестрой, мой брат Сергей представлялся нашим общим братом, ставшим капитаном, а Синей Бородой был доктор Слюдин. Порой от таких снов мне становилось страшно. Я просыпалась и бежала к Франсуазе в постель, будила её и забиралась к ней под одеяло. Она успокаивала меня. Так это стало нашей тайной на несколько лет.
Франсуаза хорошо относилась ко мне, а я к ней. Скорей всего, графиня Лидия Ивановна, следившая за всеми в доме, знала о том, что я часто провожу ночи не в своей постели и не одна. Однажды я спросила об этом Франсуазу. Она мне ответила, что Лидия Ивановна знает об этом от неё, но не находит в том ничего дурного. Вместе с тем, узнав о нашем совместном провождении времени, она просила Франсуазу регулярно проверяться у врача Слюдина, что та и делала.
Когда у меня начались регулярные кровотечения, Франсуаза сразу обратила на это внимание и научила меня поведению в эти дни. Графиня Лидия Ивановна тоже не обошла это стороной. Она начала выезжать на балы вместе со мной только для того, чтобы показать меня свету. А я в своём пятнадцатилетнем возрасте ещё не любила никого, только влюблялась в сыновей прислуги, что, конечно, серьёзным чувством назвать нельзя. Но с внутренним, тревожным, как водится, волнением всё-таки помышляла уже о замужестве. Что об этом думал отчим, Алексей Александрович Каренин, не знаю. Он был для моего понимания недоступен.
Племянница графини Лилии Ивановны Наденька раз в неделю заезжала на общий семейный обед. Заходила в мою комнату поиграть со мной в куклы, а иногда и в прятки. Но она всегда спешила вернуться в Смольный до вечерней молитвы. Получалось, что подруг у меня не было. Но я и не расстраивалась из-за этого, радовалась каждому дню, потому что умела заполнять его сама. Так незаметно для меня наступило время разговоров о замужестве. Произошло это после одной из маслениц.
Глава 2
Масленицу я любила. Она чувствовалась в воздухе, в разговорах, во вкусном запахе блинов, в ускоренной праздничной езде на снежных улицах. Масленица тревожила своей буйностью чинный Петербург.
Шибко летали барские пары вороных и гнедых, покрытых сетками. Фонари, бойкий бег, звон бубенцов, прогуливались тройки, поджидая седоков. Пристяжные змеями гнули шеи. На Сенатской площади чухны со своими мохнатыми вейками звенели кольцами-бубенчиками, бойко зазывая прокатить на балаганы за три копейки. Сговаривались они и с графиней Лидией Ивановной, отчимом Карениным и Капитонычем. Мы садились все вместе в их разукрашенные сани с моей гувернанткой Франсуазой и братом моим Сергеем прямо на сено и лихо неслись по набережной. Я заметила, что он всегда выбирал место рядом с Франсуазой, а иногда даже незаметно обнимал её за талию, как бы придерживая, чтобы она не упала. Она тоже прижималась к нему, смешно вытягивая ноги и сжимая между ними всегда зябнущие ладони.
Встречные извозчики добродушно переругивались с чухонскими конкурентами, заливались бубенцы и наши, и встречные, звуком нарастающие издали и постепенно удалявшиеся. Меня возбуждал этот милый перезвон, я громко, возможно даже неприлично громко смелась, и никто не делал мне замечание по этому поводу. Отчим Каренин сидел впереди, придерживая рукой свою мерлушковую шапку и держа под руку графиню Лидию Ивановну. За ними обнимались и даже целовались Франсуаза и Сергей.
Рядом со мной сидел Капитоныч. Он был дядькой Сергея. Предыдущего гувернёра-учителя, француза Бобре, выгнали из дома за пьянство, беспутство и пренебрежение учительскими обязанностями. На его место назначили Капитоныча.
«Эх, жаль, барыня-красавица, маменька твоя не видит тебя! Ужо бы она обрадовалась! Царствие ей небесное!» — говорил он мне. Но я его не слушала, мне было слишком весело.
Всюду стояли балаганы: большие, круглые, коробкообразные с галереями и переходами и с сооружёнными лестницами, «театры» всякого рода. Карусели, качалки, панорамы в палатках причудливо выросли на площади, как грибы после дождя. Там, на фоне страшных изображений зверей, птиц, вулканов и арапов, происходило что-то загадочное. Двигались и суетились ряженые. Вот Арлекин с сиплым голосом и повязанной шеей, рядом с ним Коломбина с наигранными кокетливыми ужимками и пером на польской шапочке, а с другой стороны Пьеро без маски, с обсыпанным мукой лицом ударяет в бубен. Все жмутся друг к другу и приплясывают от холода. У всех от мороза изо рта идёт лёгкий пар. Сыплют сверху дробные словечки, весёлую чушь. Главная же фигура для меня — масленичный Капитоныч. От его острот, как говорили в старину, «солдаты краснеют». Из разных театров одновременно вырываются трубные звуки оркестров, и барабанная дробь, и громы бубнов, кругом поют шарманки полечки-мазурочки и допотопные вальсы. С визгом взлетают на качелях в прицепных челнах парами кавалеры с девушками. Вздуваются юбки, а их чулки полосами и сапожки прюнелевые с ушками видны всем вокруг. Передвигается толпа, люди покупают турецкие сласти, орехи, постный сахар розовый и белый, халву и пряники.
Тут и там стоят столики. Горячий сбитень пьют все: важные господа дворяне, вроде нас, купцы, рабочие, солдаты, гимназисты и барышни-мещанки. Вот столпились под «галдереей» их любопытные головы. Из недр дощатого театра выливаются распалённые и счастливые люди с красными от крепкого спёртого духа и удовольствия физиономиями. Окончилось нехитрое, но весёлое представление. И уже опять бьют в колокол, и театральные крикуны зазывают снова, крича о китайцах — глотателях огня и шпаг, плясунах цыганах, гуттаперчевых гимнастах и фокусниках, распиливающих у всех на глазах женщину.
С самого детства я с Сергеем посещала оперу, балет, но всё-таки, несмотря на это, воспринимала и подобное развлекательное творчество. Любила слушать, как поёт моя нянька Мамлена до тех пор, пока она не «запела» мне другие песни, про деток, коих мне рожать нужно для себя. Разве я могла тогда понять, что к тридцати годам, уже родив одного или даже двух детей, мы становимся настоящими женщинами, если рядом с нами любимый и достойный нас мужчина?
К масленице в Санкт-Петербурге приурочило своё представление Парижское кабаре, которое после должно было выступать на Всемирной Выставке в Париже. Графиня Лидия Ивановна и Каренин разрешили Сергею, Франсуазе и мне поехать в отель «Бонапарт», где был устроен этот спектакль парижского кабаре. Они оба таким образом ублажали брата, которому исполнилось двадцать два года, и он с отличием окончил юридический факультет Петербургского университета, как того хотел его отец.
Франсуазе Сергей заказал билеты заранее. Но когда увидел моё обиженное лицо и еле-еле сдерживаемые слёзы, то согласился взять меня с ними. Он купил мне билет перед началом спектакля на приставной стул. К слову сказать, это был единственный спектакль парижского кабаре в России, после которого ему запретили гастроли в стране на долгие десятилетия. Это только подогрело интерес всех без исключения, кто приезжал из России в Париж, поэтому многих актрис парижского кордебалета выбирали из русских балерин.
Я сидела отдельно на приставном стуле, и мне хорошо были видны Сергей и Франсуаза. Время от времени они целовались, никого не стесняясь. Вообще-то я никогда не подглядывала за братом, никогда никому не рассказывала, но твёрдо знала о том, что Франсуаза его любовница. Хотя нельзя называть её так. Она не была замужем, он не был женат.
Однажды я заметила за общим обедом, как Сергей прижал под столом её ногу, и она, покраснев, пальцем дала ему знак отодвинуться. У него покраснели уши. А потом вечером я слышала через открытые окна в наших комнатах, как она пришла к нему и говорила, чтобы он больше так не делал, а терпел, дожидаясь их ночного свидания в доме дяди Стивы. Я поняла, что они там встречаются, но, видимо, очень редко. Мне стало жалко их обоих, но я думала, что Сергей на ней никогда не женится. Чтение французских романов научило меня многому.
Мне казались понятными интимные отношения графини Лидии Ивановны и отчима. У них не было никаких интимных отношений. Видимо, графиня Лидия Ивановна не могла их иметь. Она читала журнал «Спиритуалист» и в нашем доме постоянно бывал сначала медиум Лурье, а потом Бредиф. Я много раз видела, как перед их приездом в доме убирали все иконы и доставали из кладовой комнаты вращающийся стол. Алексей Александрович Каренин и графиня Лидия Ивановна вместе с богатым помещиком Александром Аксаковым, профессором Егором Вагнером, его женой и сёстрами Фокс ночью усаживались за стол, брались за руки и взывали к духам.
Моё детство закончилось. Мне казалось, что я начала понимать взрослую жизнь. «Почему в другой раз в семьях женщины терпят мужчин непутёвых? Потому что принято так, что женщина без мужчины не сможет родить себе ребёнка», — рассуждала вслух при мне моя главная нянька Мамлена. Брак казался ей той прозаической необходимостью, которой должна подчиниться большая часть девиц. Брак, по понятиям Мамлены, значил, во-первых, девичник, во-вторых, сбор приданого: две дюжины ткацкого белья, тафтяное одеяло, венчальное белое платье, цветочный венок, венчальный обряд, обед с шампанским, танцы, а, в-третьих, уже и муж, всё равно какой бы ни был. Впрочем, мужа могло и не быть, а мужчина любой обязателен.
Мамлена вроде как не была несведуща о прямых обязанностях супругов, а положительно знала и слышала, что самой неприятной для жён принадлежностью брака бывают мужья. Не они ли всегда заставляют женщин проливать слёзы? Не они ли бранятся громко, пьют много водки и не дают денег? А всё равно, твердила Мамлена, мол, замуж пора настала тебе, барыня, а засидеться в девках — стыд большой.
— Над старыми девками смеются, — говорила она. — Тебе сейчас пятнадцать, вот через три года ты уже будешь на пороге дверей в старые девы. А мужа тебе нужно найти лет на пять-восемь старше. После женитьбы нужно сразу родить, после первых родов зачать второго. Так нарожаешь пятерых, станешь самостоятельной. Сорок лет бабий век, а сорок пять — баба ягодка опять. Тут и любовь к тебе придёт, если до этих пор мужа не полюбишь.
День был чудесный, хотя лето в том году нас не баловало совсем. На столе в моей комнате стояла вазочка с вишней.
— Мамлен, — спросила я её, глядя на вишню. — Я не поняла, почему бабий век сорок лет, а в сорок пять баба ягодка опять. Это что? Новый урожай? И снова нужно рожать, как с самого начала?
Мамлена взяла в руки горсть вишенок и с удивлением на них посмотрела, будто первый раз их увидела.
— Анюточка, вишенка, моя, я не знаю, что тебе ответить. У меня же всего Лёнечка мой один, больше не рожала.
— А почему ты больше не рожала? — не унималась я.
— Так не от кого родить-то мне. Я же всё время в твоём доме. От кого тут родить-то можно? Почти одни женщины. Мужиков-то всего четверо, вместе с Его Высокопревосходительством. — Она положила ягоды обратно в вазу и тяжело вздохнула. — Ты уже взрослая, я тебе расскажу, как я просила Их Высокопревосходительство сделать мне ребёночка.
— Какого Их Высокопревосходительства? — насторожилась я.
— Алексея Александровича, — ответила Мамлена. — Было это давно. Я увидела, как он лежит в своём кабинете на диване. Дверь была настежь открыта. Лежит и смотрит в потолок, а форточка над ним распахнута. Снег в неё задувает. Прямо на него падает. Рядом на пол съехал плед. Ну тот, шотландский, тёплый, его любимый. Дай, думаю, подойду, накрою его. Ну и подошла. Подняла плед, накрываю. Он посмотрел на меня и, взяв меня за руку, сказал так тихо, вроде как стесняясь: «Спасибо, Елена Леонидовна. Добрая вы женщина», — и неожиданно поцеловал мне руку. Тут я и разжалобилась. Жалко мне его стало. И себя жалко. Я ему и говорю: «Ваше Высокопревосходительство, сделайте мне ребёночка».
— Так и сказала? — спросила я.
— Ну да, а что? Вон у нас в Чухломе был губернатор, Высокопревосходительство князь Топыркин. Он, знаешь, скольким бабам детей понаделал? Цельный полк. И ничего. Все бабы были довольны, а детишки были просто одно лицо с ним. Их так и прозвали — Топыркины.
— И что тебе ответил наш Их Высокопревосходительство?
— Он мне сказал, что не может. Сказал: «Вы кучера Ефроима попросите лучше. Он, наверно, ещё может. А я не могу». Вот и понимай, как хочешь, чего он ответил. Ефроим-то уже умер лет так примерно пять тому назад, когда я просила ребёночка у Их Высокопревосходительства. — Она посмотрела на вишни и снова взяла горсть ягод. — А ты, Анюточка, моя ягодка, замуж торопись. Вишь, как бывает! Один умер, а другой не может. Это и с молодыми так же. Ты не думай! Если есть кто на примете или даже без примет, выходи скорей замуж. Пора тебе настала. Ты ж вон какая красавица! Царица вылитая! И статная, и знатная. И умная, и добрая, и весёлая, и лёгкая. Всё при тебе.
А я и не помышляла бы о замужестве, если бы об этом не твердила мне моя нянька Мамлена, да и Франсуаза кивала в знак согласия с ней своей красивой головой.
И вот пятого декабря в день Святой Великомученицы Екатерины и учреждения Петром I ордена в её честь в Зимнем дворце был устроен ежегодный бал. Орденом Российской империи Святой Великомученицы Екатерины награждали всех Великих княгинь и дам высшего света. Он имел две степени: «большой крест» — для Великих княгинь и других дам царской крови и «малый крест», кавалерственный — для дам из высшего дворянского сословия. Награждённые именовались соответственно «дамами большого креста» и «кавалерственными дамами».
Орденом второй степени награждались дворянки за просветительство, благотворительность, в том числе выкуп на свои деньги попавших в варварский плен христиан, создание на свои деньги лазаретов, госпиталей и других медицинских учреждений во время войны под флагом «Красного Креста» для солдат и офицеров русской армии. Обо всех царских балах приглашённые извещались задолго до их начала, иногда даже за полгода до события.
Обязательным условием приглашения на придворные балы для мужчин было их формальное право быть представленным императору, а для дам — императрице. Право представления в первую очередь давалось придворным чинам, кавалерам и дамам, а затем военным и гражданским (статским) чинам первых четырёх классов, полковникам гвардии, занимавшим должности четвёртого класса и некоторым другим из числа крупных банкиров, профессоров медицины и учёных.
Из числа дам этим правом пользовались супруги и дочери всех придворных чинов и кавалеров, а также их вдовы, бывшие фрейлины, супруги, вдовы и дочери «особ первых четырёх классов», супруги флигель-адъютантов и некоторых полковников и капитанов первого ранга. Для военных и гражданских чинов высших классов было принято представляться императору по случаю назначения на должность, награждения, отъезда в зону боевых действий во время военных компаний.
Поскольку на такие балы съезжались со всей страны тысячи приглашённых, работы у чиновников Гофмаршальской части было очень много. Иногда бюрократический механизм давал сбой, что могло привести и к карьерным крушениям. Впрочем, всё зависело от людей.
Такая история произошла в царствование Александра III. Командир первой гвардейской дивизии, генерал Николай Павлович Эттер, получил приглашение на первый Концертный бал в Зимнем дворце. Но в приглашении не была упомянута его жена. Он поехал к корпусному командиру, принцу Ольденбургскому, и объявил, что «готов жертвовать жизнью своему государю, но обидеть жены своей не позволит». Принц Ольденбургский поехал к императрице и выхлопотал приглашение, но при этом от гофмаршала князя Оболенского было объяснено, что приглашения военным делаются через Гвардейский штаб, и что за правильность их он не отвечает. На следующие два бала Эттера опять пригласили без жены. Он не поехал, оскорбившись, и подал просьбу об увольнении со службы.
Для придворных балов печатались пригласительные билеты. Их развозили по адресам придворные слуги. В билетах указывалось, в какой форме нужно быть на балу мужчинам и каких цветов должны быть платья женщин, девушек и девиц. Посещать балы мужчинам разрешалось со дня совершеннолетия, то есть с двадцати лет, а девицам с пятнадцатилетнего возраста, Мне в тот год исполнилось шестнадцать лет, а Серёже двадцать два года.
Время окончания бала не регламентировалось. Гости веселились до тех пор, пока в залах находились император или императрица. Балы продолжались, как правило, до двух-трёх часов ночи, а иногда и до пяти утра. Никто не объявлял об окончании бала. Если император хотел, чтобы бал окончился, он посылал в оркестр своего адъютанта, и тот приказывал играть известную в Европе музыкальную шутку австрийского композитора и музыканта-скрипача Франца Йозефа Гайдна. Шутка состояла в том, что музыканты играли котильон и уходили поодиночке, оркестр всё слабел и слабел, так что под конец оставались играть лишь барабан и одна скрипка. И вот барабан играет всё тише и тише. Замолкает барабан. Барабанщик уходит. Скрипач продолжает играть на всех струнах, постепенно переходя на одну, и та, наконец, умолкает. Все оглядывались в недоумении, а бал прекращался сам собой.
За неделю до бала во время общего обеда в нашем доме всем подали на десерт парфе с шоколадом, а мне принесли гоголь-моголь с тёплым молоком. Я отставила его в сторону и сказала, что тоже хочу парфе. Графиня Лидия Ивановна громко сказала:
— Ну вот, холодного ей нельзя, а она капризничает. Парфе ей, видите ли, подавай. Фру-фру какая! Взбрыкивает! Я же говорила, что её нельзя везти на императорский бал. Останешься дома.
Я заплакала и выбежала из столовой. Пришла Франсуаза и стала меня успокаивать. А утром зашёл ко мне Сергей и принёс приглашение на бал для нашей семьи. Я в нём тоже была указана.
«А что мне надеть?» — спросила я, обращаясь к Франсуазе. Она мне посоветовала атласное светло-сиреневое парижское платье или молочно-кремовое шёлковое, из Вены.
Оба платья были заказаны в Невском пассаже, а несколько дней тому назад их вместе с нижним бельём, чулками и веерами, специально подобранными к каждому из них, в больших коробах привёз рассыльный. На этот бал я выбрала светло-сиреневое.
Графиня Лидия Ивановна к каждому новому балу заказывала платья у своей портнихи. В тот же день она привезла ей серо-дымчатое платье из бархата. Когда графиня его надела, примеривая, и показала мне, я увидела, что она в нём похожа на летучую мышь. Только лицо и шея у неё были жёлтыми.
Наступило пятое декабря. После официальной части и награждения орденами все перешли в бальную залу. В списке награждённых была баронесса Вронская-Шильтон. Но я её не видела, так как стояла очень далеко. По той же причине не видела я императора и императрицу. После награждения загремел оркестр. И всё, что не нравилось мне, теперь умиляло и радовало, потому что увидела я себя в большое зеркало. Я не ошиблась. Я была действительно мила, когда играла в лото с молодым князем Григорием Орловым.
— Вы знаете, Ани, — посыпалась его французская скороговорка, — я очень люблю, когда громко играет музыка. Ведь тогда можно спокойно говорить, не будучи услышанным никем.
Он наклонился ко мне, почти к самому уху. Кровь прилила к моему лицу. Я почувствовала, как оно запылало. Раскрыла свой веер и стала обмахивать себя. На самом деле я была несказанно рада не его первым шагам, а тому, что я оказалась на этом балу, и он меня нашёл.
Первый тонкий ледок в моей жизни между мной и мужчиной был растоплен. Но я была слишком неопытна. Не сумела скрыть волнение, охватившее всё моё тело. Я не искала никаких особых слов для ответа, а просто поднялась, отставив карточки лото в сторону, и подала ему руку, молча соглашаясь с ним танцевать. Улыбаясь, он торопливо поднялся.
В моей бальной книжке ещё никто не был записан. Я увидела, как напряжённо смотрели на меня Каренин и графиня Лидия Ивановна. Я нарушила этикет. Я о нём, безусловно, знала. У всех на балу были бальные книжки. Для них в платьях у пояса сбоку был устроен специальный карман. Снаружи он никак не виден, потому что сверху на пояс в этом месте прикрепляется цветок, или делается вышивка. Внутри бальной книжки пишутся названия и номера танцев. Ещё до начала бала кавалер может пригласить даму на определённый танец, а она, соглашаясь, записывает его фамилию на соответствующей строке в своей бальной книге. Если по какой-либо причине дама или девица отказывает кавалеру, она должна пропустить этот танец. Считается неприличным сразу же после отказа принимать приглашение другого. Многие дамы, девушки и девицы склонны считать бальную книжку списком своих любовных побед, свидетельства внимания и симпатии мужчин к ним. И напротив, пустые страницы говорят о непопулярности на балу.
Шёл котильон. На него князь Григорий Орлов был записан княжной Мещериновой. Конечно же, я не знала об этом. Но он-то знал и мог отказать мне, объяснив причину. Это было бы непредосудительно и честно по отношению к нам обеим. Тем более что я узнала обо всём случившемся практически сразу после окончания котильона.
Князь Григорий Орлов, поблагодарив меня, но не проводив на место, сразу отправился объясняться с княжной Екатериной Мещериновой. Я видела, как они прошли вместе в боковую залу. Через полчаса он вернулся и, как ни в чём не бывало, предложил мне продолжить с ним игру в лото. Сославшись на усталость, я отказала ему, и вслед за этим мы все вместе, включая Сергея, уехали домой.
На следующий день Франсуазу переселили в другую комнату на третьем этаже, а в смежной с моей комнатой спальне поставили балетный станок и установили большое зеркало во всю стену. Видимо, графиня Лидия Ивановна сочла моё исполнение котильона непривлекательным для больших балов. Однако я знала сама о том, что хорошо танцую, ведь у меня была осиная талия, стройные ноги, несмотря на объявленную мне английскую болезнь, к тому же я была достаточно умна для любого бального кавалера. Не прошло и двух месяцев, как это подтвердилось.
Император Александр III не любил балов, хотя он не решился отменить ставшие уже традиционными и имевшими большое значение для петербургского высшего света царские балы. Надо было и ему подчиняться традициям императорской России.
Александр Александрович, загодя приехав со своей женой в Зимний дворец, отчаянно скучал в малахитовой гостиной, перебрасываясь фразами с великими князьями, обступившими его. За три дня до этого бала я получила письмо от князя Григория Орлова с просьбой записать его на седьмой номер со мной. Седьмым номером был всегда вальс, открывавший второе отделение бала после перерыва и буфета.
В бальный зал Зимнего дворца приглашалось до трёх тысяч человек, в том числе официальные представители иностранных государств при русском дворе. Танцорами по определённой для каждого полка квоте командованием Русской Армии на бал назначались молодые офицеры, проходившие перед отправкой во дворец строгий инструктаж у командиров о поведении на таких балах. Они начинались, в основном, в половине девятого вечера, а завершались застольем, во время которого император, обходя столы, разговаривал с присутствующими. Сам он на балах обычно не ел.
Для прохода на бал каждый класс пользовался своим подъездом. Великие князья входили через Салтыковский, а для придворных предназначался подъезд Их Величеств. Военные шли через Комендантский, а гражданские чины через Иорданский подъезд.
Пёстрая нарядная толпа уже переливалась из залы в залу. Великосветский Петербург тонул среди провинциальных дам и барышень, попавших во дворец благодаря служебному положению мужей и отцов или наехавших из губерний богатых дворян-чиновников и банкиров. Матушки и тётушки искали женихов для своих дочерей, а лучшей биржи, чем большой придворный бал, трудно было найти. Большинство офицеров, назначенных на бал, бросилось навстречу молодым женщинам и девушкам. Нужно было заранее пригласить их на один из пятнадцати танцев, указанных в программе.
Около дверей, где должна была выйти царская семья, толпились высшие чины свиты. Князь Григорий Константинович Орлов находился в это время у буфета вместе с любителями выпить шампанское перед началом основной части бала.
Но вот раздался стук палочки придворного капельмейстера. Шум мгновенно стих, и в распахнутые двумя высокими неграми двери стала входить царская семья. Впереди, под громы полонеза, шёл грузный император, держа за руку миниатюрную императрицу с яркими глазами и мягкой улыбкой. За государем вышагивал, стараясь попасть в такт его шагам, камер-паж, за ним — дежурный генерал-адъютант и Министр двора. Позади императрицы бесконечный шлейф платья несли два камер-пажа, поднимавшие его на поворотах и потом расправлявшие во всей красе снова.
Император выглядел на редкость моложаво. Его тяжёлой фигуре очень шёл костюм — белая куртка, украшенная золотым позументом. Её воротник и рукава были оторочены мехом голубого сибирского песца. На нём были светло-голубые, в обтяжку, брюки и узкие, чётко обрисовывавшие ноги, сапоги. Он оглядывал залу своими голубыми глазами, и величественно-спокойное выражение его лица с окладистой бородой время от времени украшалось мимолётной, посланной кому-то из толпы, улыбкой.
Я впервые так близко от себя видела императора. Неожиданно он помахал рукой Каренину, узнав его, и остановился, увидев меня. Громко обращаясь к императрице, спросил её: «Рядом с Карениным стоят его сын и графиня Вронская-Каренина? Я не ошибся?». Императрица улыбнулась ему и помахала приветливо мне рукой. Я, не смущаясь, шагнула вперёд и, сделав глубокий книксен, низко поклонилась обоим.
Придя в себя после такой встречи, огляделась вокруг и заметила коренастого генерала в парадной форме с аксельбантами, орденами, наголо бритой головой и аккуратными седыми усами. Он обводил взглядом далёкие берега паркета. Розетка на груди давала ему право, не представляясь, приглашать любую даму без предварительной записи. Генерал подошёл ко мне и представился:
— Граф Вронский Алексей Кириллович. Запишите меня, пожалуйста, на ваш седьмой номер. Он свободен?
Сердце моё оборвалось. Не знаю, как я не упала в обморок. Я чувствовала, как рядом со мной напряглись, будто перед громадной волной океана, Каренин, графиня Лидия Ивановна и Серёжа. Вокруг нас стояла полная тишина. Все смотрели на меня.
— Повторите, как вас зовут, господин генерал? — еле-еле выговаривая слова, переспросила его.
Я открыла, не глядя на него, свой бальный блокнот в муаровой обложке и с серебряным карандашом на такой же цепочке. Он, не смущаясь, повторил, а я, тоже не смущаясь, записала это имя, вычеркнув заметным всем жестом князя Григория Орлова из той же строчки.
Пока не началось второе отделение, я молчала, ни с кем не разговаривая. Присутствовала на балу, избегая всех взглядов на меня, и сама ни на кого не смотрела. Конечно же, это было невыносимо трудно сделать, особенно вблизи графини Лидии Ивановны, отчима и Сергея.
О чём и о ком они думали, я не знаю. Я думала о своём отце. Я сразу узнала и признала его по взгляду на меня. Так смотреть мог только мой родной отец, и никто более на свете. Мне трудно было держать себя в руках, ничем не выдавая своего волнения. Да и кто бы меня понял в этой толпе? Я, бастард, стою в Зимнем дворце в ожидании танца с отцом перед императорской семьёй! Слыханное ли это дело?!
Разносили мороженое, шампанское, красное и белое вино, тарталетки, играла музыка, слышен был смех и разговоры. Кто-то подошёл к Каренину и завёл с ним разговор о новом брачном кодексе законов и законе о наследственном праве. Каренин отвечал сдержано и важно своим скрипучим голосом. Графиня Лидия Ивановна время от времени включалась в их беседу. На всё у неё было своё мнение. Они будто не замечали меня, будто не обратили внимание на то, что произошло со мной, и этим придавали мне силы успокоить своё волнение. Я взяла у проходящего официанта в чёрном фраке с подноса мороженое, хотя знала о том, что потом дома у меня заболит горло. Аккуратно брала его ложечкой, по чуть-чуть, и так же аккуратно отправляла его в рот. Мне казалось, я сосредоточилась только на царском мороженом и, в конце концов, успокоилась.
Сходила умыть лицо, заодно поправила причёску и белую ленту с вуалью на голове, которую было положено надевать девицам на царские балы. Осмотрела со всех сторон своё великолепное платье из молочно-кремового шёлка, которое мне помогла подогнать по моей фигуре Франсуаза.
Когда я вышла в главную бальную залу, капельмейстер объявил танец номер семь. Кавалеры заспешили к своим дамам и повели их ближе к центру. Я даже не заметила, откуда появился мой отец. Лишь мельком увидела, как остановился спешивший ко мне князь Григорий Орлов. Отец мягко предложил мне свою согнутую в локте руку. Я взяла его под эту руку, ощущая твёрдые мышцы. Он повёл меня к приготовившимся парам. Оказавшись рядом с ним, сразу заметила, что я выше него. Это немножко меня смутило, так как мой учитель танцев, актёр из Мариинского театра Федот Иванович Панин, был значительно выше меня. Видимо, отец почувствовал моё смущение. Он повернулся ко мне лицом и тихо промолвил:
— Не смущайтесь, Анна Алексеевна, танцуйте, как обычно вы привыкли танцевать. Сейчас будет звучать произведение Иоганна Штрауса «Венский вальс». Вы наверняка его знаете.
Я утвердительно кивнула головой.
— Вот и хорошо, — ответил мне отец. — Хотите поехать в Вену? Вы ещё не бывали в ней?
Не успела я ответить ему, как зазвучал первый аккорд, и, легко развернувшись ко мне лицом и телом, отец подхватил меня и поплыл вместе со мной в вальсе по залу, да так, что я почувствовала себя свободной птицей, будто у меня выросли крылья. Кто-то из старших офицеров в зале крикнул: «Браво, Вронский!». Раздались аплодисменты. Перед нами открылось пространство, нам уступали место до тех пор, пока мы ни оказались в самом центре залы.
Отец занял точную позицию для поддержания баланса наших тел. Сделал он это мастерски, лучше, чем мой учитель танцев. Я осмелела и посмотрела ему в глаза, а не через плечо. Музыканты заиграли второе колено, и зазвучали трубы, грянули энергичные удары вальса. Отец гордо поднял голову и посмотрел так же мне в глаза. Казалось, он стал выше ростом, на его лице светилась добрая улыбка. Он деликатно, но уверенно придерживал меня чуть ниже лопатки. Благодаря такой поддержке я могла расслабить спину, «открыть верх», как говорят танцоры. Я наслаждалась нашим танцем, чувствовала себя полностью свободной, лёгкой, женственной. Мы кружились по залу, и каждое движение отдавалось в моём теле необычайной, светлой радостью. Я искренне улыбалась. Это мгновение своей жизни я никогда не забывала.
Когда смолк звук оркестра, все танцующие зааплодировали нам. Капельдинер низко кланялся, а оркестранты встали со своих мест. Я поблагодарила отца. Он мне ответил поцелуем руки. К нам подошла баронесса Вронская-Шильтон, отец представил её мне. Мы все вместе прошли в лазурный зал, где присели за стол с подносом и бокалами сельтерской воды. Пить мне не хотелось. К отцу подошёл незнакомый мне князь Потёмкин и, поздоровавшись, пригласил отца сыграть с ним в шахматы в шахматном клубе. Я о нём ничего не знала, хотя фамилию его слышала. Чтобы не мешать им, я вежливо поблагодарила всех и отправилась искать графиню Лидию Ивановну, Каренина и Сергея. Мне хотелось поскорее вернуться домой.
Оказалось, что, пока меня не было, Сергей покинул бал и куда-то уехал. Графиня Лидия Ивановна и Каренин не хотели уезжать и ждали застолья, на котором надеялись ещё раз увидеть императора и, возможно, поговорить с ним.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
