
Благодарности
Хочу выразить благодарность коллективу компании «Технотранс» за активную помощь в создании рукописи: эти люди знали, что я пишу книгу, но не все догадывались, что пишут её вместе со мной. Многие идеи — в особенности те, что касаются практики применения современных учебных средств — подсказаны, так или иначе, сотрудниками компании, исходя из их профессионального опыта.
Особая благодарность — руководителям компании: Евгению Владимировичу Демидову и Михаилу Евгеньевичу Демидову. В плодотворных беседах с которыми было выпито множество чашек кофе и выкурено немало сигарет (то и другое, кстати, вредно для вашего здоровья). Их предложения, дополнения и замечания, высказанные иногда в рискованной для хороших взаимоотношений манере (чему виной, конечно, вредные для здоровья кофе и сигареты), оказались чрезвычайно полезными.
Отдельное спасибо моей семье, жене и детям, без которых, несомненно, этой рукописи бы не было.
Руководство к употреблению: как читать-смотреть эту книгу
Приходилось ли вам держать в руках книгу, где о человеческом мозге собрана вся, более-менее существенная, информация — от древних и современных научных теорий до мифов и сказок?
Я такой книги не видел и не читал. Поэтому решил её написать.
Здесь часто будут встречаться слова «разум» и «мозг». По сути, это одно и то же.
Просто «разум», как правило, употребляется в контексте явлений, а «мозг» — когда подразумевается физический объект или система.
Впрочем, как мы убедимся, феноменология и научное описание разума-мозга тесно переплетены.
Главная идея — что такое мозг и для чего он нужен? — представлена сразу в первой главе. Сделано это с целью сэкономить моё и ваше время. Уловив смысл, вы решите — читать дальше или нет, а у меня будет шанс обрести хорошего критика.
Классические концепции устройства разума описаны в главах 2, 3 и 4. Там много имён, фактов, терминов, цитат. Думаю, сторонникам научного подхода понравится.
Если вы знакомы с классическими моделями, первые главы можете пропустить. Авторское объяснение разума составляет содержание главы 7. Предпосылки гипотезы помещены в главы 5 и 6. Об эволюции мозга в контексте предложенной гипотезы и о некоторых её практических следствиях рассказано в главах 8 и 9.
Последняя, десятая, глава написана для развлечения. На художественных примерах разобраны все враки, страшилки и мифы о нашем замечательном разуме.
Не уверен, что смог угодить всем. Сегодня всякий человек имеет мнение по любому вопросу и, так или иначе, его высказывает. Устройство и работа мозга — вопрос важный, так что, критика приветствуется.
Выбирайте нужный кусок и изучайте то, что интересно лично вам. По-моему, это лучше, чем листать очередной научный (наукообразный) талмуд или тривиальное общефилософское сочинение про мысли, чувства, сознание и прочие смутно-таинственные материи.
Дух времени требует лаконичных форм. Поэтому каждая глава снабжена таблицами и рисунками. В них — сжатое до предела содержание. Так что, можно вообще ничего не читать: только смотреть.
Смотреть и думать.
Мозг — сложная штука. Для обсуждения, имеющего сколь-нибудь малую пользу, требуются актуальные научные знания. В наши дни добыть такую информацию нетрудно. Было бы желание. Не бог весть какое усилие: включить компьютер, «погуглить», почитать научные статьи.
Однако для применения разума по его прямому назначению не нужно и этого.
Самый изощрённый инструмент в природе доступен вам в любое время и без всяких условий. Вы можете быть бедны, физически слабы и не наделены какой-либо властью. Но мозг-то у вас есть! Вы вольны им воспользоваться, как заблагорассудится.
Ну, не чудо ли это?
Пролог
Когда-то люди сказали друг другу: «У нас есть душа».
Все воскликнули: «Ах, как хорошо! Это всё объясняет!». Прошло время, и люди, поумнев и набравшись опыта, верить в душу перестали.
Тогда они сказали: «Главное в человеке — мозг, и он работает как машина».
Все обрадовались и стали поздравлять друг друга: «Как точно подмечено! Это всё объясняет!». Но снова прошло время, и люди, впав в меланхолию, забыли про чудесную машину.
И вновь они собрались и сказали: «Мозг — больше, чем машина. Он может планировать и строить другие машины. Это компьютер».
Все вздохнули с облегчением: «Ну, наконец-то мы догадались! Это всё объясняет!». Шли годы, и люди, запутавшись в расчётах, стали с отвращением думать о вычислениях и алгоритмах.
…
Соберутся ли люди снова? И что они скажут?
Вступление: в поиске слов и образов
Мысль изреченная есть ложь
поэт Тютчев прозревает
Реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно как и не абсолютной случайностью
физик Пригожин ищет узкую тропинку
То, что мы думаем и знаем о собственном разуме, определяет все наши замыслы, мечты, цели.
Чем полнее знание о мозге, чем точнее его объяснение — тем больше оснований гордиться достижениями нашей цивилизации. Не обладание волшебными технологиями и не слепая вера в то, что они вот-вот появятся, а восход на новый уровень самопознания характеризует того, кто считает себя разумным существом.
Вопрос об устройстве и работе человеческого мозга традиционно относят к компетенции науки. Однако в XXI веке это уже не аксиома и не правило.
В информационном обществе наука, как и многие другие сферы человеческой деятельности, перестала быть уделом специалистов. Не потому, что с появлением интернета все стали во всём разбираться, а потому, что всякая — и надуманная, и серьёзная — проблема сегодня оказывается в фокусе единого коммуникационного пространства.
Критика от неспециалиста может быть глупой, смешной и по делу. Но в любом случае она есть. И её неустранимое присутствие — верное свидетельство того, что мы шагнули в новую эпоху.
Разговоры, обсуждения, споры разумов о разуме были, есть и будут. Более того: в ближайшие десятилетия эта проблема станет ключевой.
Поколению средних лет суждено стать свидетелями, а некоторым, ныне юным, созданиям — авторами грандиозного прорыва в области самопознания. Сформируется первая работающая модель мозга на основе новой теории: модель не искусственного, а естественного (живого) интеллекта.
Хотя очень может быть, что называться он будет иначе. Ибо синтез сложного и его понимание свершаются одновременно.
Этот прогноз может затеряться среди глупых вымыслов, откровенной лжи и пустословия, которыми так насыщена наша реальность. Тем не менее, это случится.
По образованию я — психиатр, но так вышло, что уже много лет имею отношение к практике создания и внедрения интерактивных информационных систем. Это новая отрасль, которая сейчас переживает бум, а вскоре необратимо преобразует нашу действительность.
Разуму в этой трансформации принадлежит ведущая роль. Потому что причиной всякого социального и технологического изменения облика цивилизации является функциональная перестройка мозга в условиях непрерывного ускорения информационного обмена.
Но, чтобы описать внятно и как можно полнее — что происходит с мозгом и к чему это приведёт — необходимо решить более фундаментальную задачу: объяснить, как он устроен и как работает.
Значит, нужна новая гипотеза.
Многие ищут ответ в мейнстриме. В том числе — в научном. Вернее, научно-популярном. Всё правильно: с этого следует начинать.
Однако очень быстро наступает разочарование.
Где-то слишком много терминов. Где-то под видом науки продвигается философия. Порою в ход идут сравнения, которые даже самый неискушенный неофит воспринимает как пропаганду вульгарного материализма из какого-нибудь, пропахшего нафталином, XIX века.
Слова искажают смыслы, метафоры мертвы.
На самом деле всё ещё хуже. В нашем, информационном, веке мейнстримные суждения о мозге даже не научно-популярные. Они в прямом смысле слова фольклорные. И если уж обращаться к языку образов, то для описания нынешнего состояния умов лично мне по душе метафора леса.
Лес — знание.
Он велик. Практически бесконечен. Движимые любопытством люди бредут по лесу самопознания тысячи и тысячи лет.
Для большинства магистральный путь один. Узкая тропинка, по которой люди семенят друг за другом, а за её пределами их окружает тьма невежества и обманчивые миражи простых ответов.
Верховодят, конечно, мудрецы. Они формируют знание. Излагают не только факты (чего видели, пока шли? как называется это дерево, куст, цветок? почему листья зелёные?), но и объяснения (что есть лес, по которому идём?).
«Лес» — всего лишь слово. Можно выдумать и другие названья: «мастерская», «биогеоценоз», «экосистема». Однако важен скрытый в сочетании звуков смысл. Из него вычленяются цель, возможности и риски: идём-то, собственно, куда и зачем? оно нам надо?
Движение перемежается с остановками. Необходимо отдохнуть, оглядеться.
Некоторые остановки длиннее обычных. Знание и смыслы следует разъяснять. Мудрецы тратят на это всё больше времени, потому что знание накапливается. О нём рассказывают по старинке: при помощи слов. Устных и письменных.
Последняя остановка — самая длительная. Все расселись кружком и приготовились слушать: мудрецы привычно бубнят и раздают справочный материал. «Лес — то, лес — сё… Костры разжигать нельзя, потому что… В листьях под действием света молекула хлорофилла трансформируется, в результате чего… Экосистема леса очень хрупка, так как…».
Тоска.
Слушатели-зрители отвлекаются. Озираются, вглядываются в растущие по краям тропы деревья, рыскают глазами по кустам и буреломам. Ищут знакомые образы, подбирают простые слова.
И, вот, откуда-то из-под покрытых мхом коряг выползают «авторитетные» публицисты и, шипя и отплёвываясь, начинают гипнотизировать людей байками про лес как склад пиломатериалов, которые годятся разве что на строительство маленьких уютных домиков и удобств на улице.
Там, в дремучей чаще, снуют юркие «лучшие умы эпохи» с базовым гуманитарным образованием и, страшно хрустя ветками, кидаются в ошеломленных такой наглостью читателей бестселлерами, обзывающими людей безмозглыми автоматами и пророчащими бесславный финал никому не нужного, по их мнению, лесного похода.
А тут, совсем близко, в отдающем смрадом дешёвого самолюбия, придорожном болотце, раздаётся квакающий и поддакивающий болтовне публицистов-мыслителей хор «лидеров мнений», вообще ничего не смыслящих ни в биологии, ни в экосистемах, ни в феноменологии леса.
Словом, разворачивается шоу для утомлённых путников. Балаган с хлопушками и фейерверками. Беззаботная фиеста. Праздник без начала и без конца.
Смысл очевиден: сидите, слушайте, смотрите, но — ради всего святого! — никуда не ходите. Нам-вам и тут хорошо. Мы, «говорящие головы», сами вам расскажем. Отвлечём, развлечём, разоблачим, развенчаем. Всё уже открыто и изучено. А что не открыто и не изучено — так и должно оставаться тайной. Почему? По кочану.
Мудрецы теряются. Мудрецы молчат.
Люди уходят. Разбредаются, куда глаза глядят.
Тоска…
Мы все блуждаем в лесу.
Пожалуй, отвлечённые размышления о разуме и его эволюции не столь увлекательны, сколько личное самопознание. Но даже в этом, почти интимном, занятии игнорировать окружающий мир не получается. Знание окружает нас, исходит из нас и стремится снова в нас вернуться.
У каждого леса — свой шум, запах и картинка. Неповторимое сочетание элементов. Как шифр к замку, блокирующему вход в тайное место. Или как сочетание ключевых слов, пароль.
Пароль эпохи: информация, сложность, гуманность.
Информация — это не про данные. И даже не про «большие данные».
Это про смыслы. Хочешь преуспеть, создавай смыслы. Большие и маленькие, полезные и не очень. Или не создавай. Пользуйся теми, что есть. Критикуй, не вставая с дивана. Главное: участвуй.
Сложность щекочет любопытство, будит жажду осмысления.
Хочется бежать, освободиться от надоевших дихотомий, надуманных противоречий. От всех этих «разум и чувство», «возбуждение-торможение», «цифровой-аналоговый». Вперёд — к мозаичности, многомерности, бесконечности.
Гуманность не имеет ничего общего с гуманизмом.
Первое — глубинное, космическое. Второе — искусственное, косметическое. Гуманность безразлична к моральным доктринам, зато чувствительна к индивидуальной этике. Она может быть глобальной, групповой, личной. Не важно. Важно не подличать, вести себя по-человечески. А по-человечески, как ни крути, значит разумно.
Все думают: чем завершится наше блуждание? Большой соблазн — угадать будущее.
Ответ может быть кратким и выразительным. Как поэтическая метафора.
Или — многословным и заумным. Как у специалистов-мудрецов, не желающих или разучившихся говорить по-человечески.
В любом случае этот ответ не должен принадлежать мейнстриму.
Мейнстрим не рождает новых идей. Он выхолащивает содержание и натягивает броскую обёртку на всё, что хоть как-то не соответствует его стандартам.
Мейнстрим охотно заимствует новые идеи, но потом обезображивает, корежит их до неузнаваемости. Как стадо диких зверей, движимое тупым инстинктом, вытаптывает хрупкую и сложную красоту на своём пути.
Не обманись, информационный человек, зри в корень!
Гипотеза об устройстве и работе мозга, представленная в этой книге, лишь догадка. Точнее говоря, синтез догадок. Не только и не столько моих.
Надеюсь, они верны в главном — в том, что смысл человеческого бытия неотделим от приумножения знания.
Глава 1. Лаконичный мозг
— Я живу в заповедном мире моих снов… А жизнь — это окошко, в которое я время от времени выглядываю.
— И что там видно?
— Да так. Муть всякая…
художник из к/ф «Асса» философствует
О чём невозможно говорить, о том следует молчать
философ Витгенштейн слов на ветер не бросает
Тайна?
В дебрях предположений, домыслов и легенд о том, что такое мозг, легко потеряться. Поэтому сформулируем главный тезис сразу. Не вдаваясь (пока что) в частности и детали.
Тогда объявим, что каждый человек наделён бесконечным, хаотичным и производящим смыслы разумом. Мозг — квантовая система. Такова центральная мысль этой книги.
По всем канонам научпопа, я должен начинать рукопись иначе. Мне бы следовало заинтриговать читателя некими таинственными фактами или сенсационными случаями: благо, о человеческом мозге такого добра навалом. Да я и сам мог бы вспомнить кое-что из профессионального опыта, чтобы сгустить вокруг выбранной темы атмосферу загадочности.
Не будем тратить время на ерунду. Пресловутые «тайны человеческого разума» — затасканная маркетинговая уловка.
Однако нередко образ таинственного мозга создаётся не приёмами беллетристики, а требованием серьёзного отношения к теориям, маскирующимися под науку или логику. В таких случаях эксплуатируется т.н. «регрессивный аргумент».
Работает это так.
Допустим, вам довелось беседовать с кем-то, кто считает, что Земля плоская. Вы говорите: «Земля круглая и вращается вокруг Солнца». Оппонент: «Не согласен, потому что это противоречит моим ощущением. Во-первых, я не чувствую движения планеты, зато каждый день вижу, как Солнце поднимается из-за горизонта. Во-вторых, шарообразность Земли — иллюзия, возникшая вследствие того, что край земного диска представляет собой ледяную стену, которую принимают за материк Антарктиду, и движущийся вдоль этой стены наблюдатель совершает перемещение по окружности». Вы: «Над Антарктидой пролетают самолёты, а ещё есть снимки планеты с околоземной орбиты: в любом случае, очевидно, что Земля — шар». Собеседник: «Я доверяю только своим ощущениям. Свидетельства других людей — не довод. Лётчики могут ошибаться, фото- и видеоматериалы можно сфабриковать». Вы удивленно заметите: «Как могут ошибаться тысячи измерительных приборов, десятки тысяч пилотов и научных специалистов? Кому и зачем нужно заниматься подделками в таком масштабе?». Ваш оппонент улыбнется: «Но ведь вы не станете отрицать, что такое в принципе возможно? Вы говорите об ощущениях — я говорю об ощущениях. Ощущения против ощущений. Наблюдения против наблюдений. Должен ли я доверять вашим или чьим-то ещё ощущениям-наблюдениям больше, чем своим собственным?».
Вообразим, что случай запущенный. Ваш собеседник — не просто сторонник гипотезы о плоской Земле, но, к тому же, придерживается одной из её ранних версий.
Тогда он станет вас убеждать, что плоская Земля покоится на трёх слонах, а те, в свою очередь, стоят на панцире гигантской черепахи. Вы потрясенно спросите: «А на чём же держится черепаха?». Он почти сразу ответит: «На другой, ещё более громадной, черепахе». Вы обреченно: «Ну, а эта черепаха — на чём?». Он, уже не задумываясь ни на секунду: «На другой черепахе»…
Поразительно, но в итоге формируется абсолютно ложное впечатление о самом предмете.
Кажется, что вопрос о форме и движении Земли до сих пор не решён. Что тут какая-то запутанная проблема, что существуют разные точки зрения: одни думают так, другие — сяк. Каждое мнение подкрепляется доказательствами, фактами, результатами экспериментов и пр.
Вы ощущаете себя новичком на боксёрском ринге.
Против вас — профи, опытный и искусный. Он уже измотал вас «альтернативными исследованиями», «наука давно доказала/наука никогда не докажет», яркими метафорами в виде слонов и черепах.
Далее следует серия коротких и чувствительных ударов: «свобода слова», «свобода мнений», «я так чувствую!», «уважайте собеседника!».
И, наконец, разящий в голову: «Наше знание ограничено! Вы не специалист и, вообще, не можете знать всего!».
Всё. Вы — на лопатках. Лежите, смотрите в потолок и думаете: «Чёрт побери, а, может, и вправду Земля плоская?»…
Когда темой обсуждения становится мозг, происходит то же самое. Причём регрессивным аргументом с особым удовольствием пользуются определённые категории «говорящих голов».
Идеалисты (не обязательно верующие в бога или богов, но твёрдо убеждённые в том, что Первопричина, «начало всех начал», принципиально непознаваема) сразу заходят с «козырей».
В дискуссии с ними вы непременно дойдете до палеолита и будете азартно спорить о деталях строения черепа древних гоминид. Вы станете, морща лоб, отыскивать «недостающее звено», а вам — с улыбкой рассказывать про безграничную мудрость Сверх-Разума. Который всё заранее спланировал и создал каждый из древних прототипов человеческого мозга, следы которых уже обнаружили и ещё обнаружат учёные.
Отстаивающим т. н. «естественнонаучную» картину мира рационалистам (которые почему-то стесняются называть себя материалистами), регрессивный аргумент служит в качестве щита.
Роль черепах, расположенных друг на друге, играют научные, более-менее логически связанные, факты. Проблема в том, что цепочка всегда обрывается, когда специалист (или выдающий себя за специалиста) сталкивается с фактами о мозге, которые не укладываются в его профильное знание. Бесполезно расширять кругозор когнитивному психологу или нейролингвисту, растолковывая постулаты квантовой теории или теорему Гёделя о неполноте арифметики. Собеседник быстро уйдёт в оборону: «Не моя область».
Наконец, многочисленные «популяризаторы науки», учёные с базовым гуманитарным образованием, а также пересказывающие их взгляды комментаторы. Для характеристики мировоззрения этих господ, пожалуй, лучше всего подойдёт определение «постмодернистское». Т.е. никакое.
Они беспорядочно перескакивают с одного на другое — с черепах на слонов, со слонов на экономику, с экономики на искусственный интеллект и внезапно… рептилоидов.
Эти деятели активно тырят доводы у идеалистов, заимствуют факты у рационалистов, и, переиначивая на свой лад, приклеивают ярлыки — «это всем известно» или «наука давно доказала». Удивительно, но в публичном дискурсе о нашем мозге это самая влиятельная группа.
Кто все эти люди, вальяжно рассуждающие о разуме?
Они — мейнстримные оккультисты. Жрецы привилегированного информационного культа с хештегом «мозгхренегознаетчтотакое».
Подмигивают: ну, типа, мы-то знаем, но за так не скажем. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, купите книжку, приходите на сеанс. Мозг-де — это вам не того-этого. Это сокровенное знание, тайна. В зависимости от того, на кого вам «посчастливилось» наткнуться — тайна непостижимая, эксклюзивная или опасная.
Так что, тссс…
Возможно ли, бывает ли тайное знание?
Нет, не бывает.
Почему?
Потому что природа знания не связана с тайной.
«Тайное знание» — такая же нелепица, как «сухая вода» или «жидкая суша». Абракадабра, вздор, сапоги всмятку. Это способно заинтересовать лишь лентяя (по факту) или невежду (по убеждению).
Тайн не существует. По крайней мере, в области познания.
В сфере художественных вымыслов — пожалуйста, сколько угодно. Но в отношении реальных явлений и вещей, которые уже приносят или могли бы приносить пользу, есть лишь степень понимания. Глубина объяснительной силы.
Ибо объяснительная сила и есть знание.
Поэтому бывают объяснения: хорошие, так себе и никакие. Но всё то, что пока не объяснено, будет объяснено обязательно. Рано или поздно. Во всяком случае — на протяжении того времени, что отведено человечеству.
Верно, что пространство неизведанного, которое предстоит понять-освоить человеку (включая его собственный разум), постоянно расширяется.
Но неверно, что это пространство кем-то создано, а мы лишь открываем очередной кусочек мозаики.
Знание создаём мы сами. По нашим, человеческим, правилам.
Поэтому знание, вообще говоря, не объективное и не субъективное; оно антропоморфное.
Это не значит, что наше знание искажает действительность, замыливает глаз. Из этого не следует, что к нему нужно относиться как к бытовой технике — увидев рекламу нового девайса, быстренько сделать заказ, а старую модель выбросить на свалку.
Знание столь же реально и грандиозно, сколь величественно наше искусство. Никому не приходит в голову избавиться от «Джоконды», потому что «компьютер может нарисовать лучше». Может или не может — безразлично. Важно, что за творением Леонардо да Винчи стоит колоссальный труд. Замысел, подготовка, наброски, систематическая корректировка, пошаговое и кропотливое исполнение. Тут не просто абстрактное уважение к труду — тут жгучий практический интерес: как он это сделал?!
Такое не выбрасывают. Такое называют шедевром и помещают в галерею для всеобщего обозрения.
Каждый полезный смысл, каждый кусочек сконструированного человеком знания тоже находится в галерее. Освоение этого пространства большинством людей так же неизбежно, как приобщение к шедеврам искусства. Лучше один раз увидеть, чем услышать тысячу лекций или прочесть тысячу статей. Личное восприятие, растворённое в стройных и разветвлённых конструкциях общечеловеческого знания, — единственная реальность, в которую мы по-настоящему верим.
Существенно, что прогулка по галерее знания суть живой («вижу своими глазами») процесс. Но это ещё и необратимый процесс: всякое созерцание смысла есть событие — то, что принято называть «открытием» и/или «изобретением». Чьим «открытием»/«изобретением» — признанного учёного или посетителя, в голове которого возникает новая идея — станет это событие, зависит от человека.
Знание, в не меньшей степени, чем искусство, дразнит воображение. И, значит, побуждает пополнить пространство новыми шедеврами.
Слово «тайна» здесь лишнее, пустое. В вопросе «Кому и зачем улыбается Джоконда?» столько же смысла, сколько в размышлении на тему «Сколько слонов и сколько черепах находится в основании мира?».
Тайна — фольклорное словцо. Оно описывает нечто бессмысленное, статичное, безнадёжное. Подобно тухлой стоячей воде на дне заброшенного колодца. Там можно увидеть отражение, но не само Солнце. Иллюзия притягивает, но ни один нормальный человек, чтоб «разгадать загадку», в колодец не полезет.
«Тайна» годится для шоу. Чтобы скоротать вечерок, убить время — а не для того, чтобы прожить его толково и умно.
Есть только один способ рассеять ореол таинственности вокруг человеческого разума, преодолеть регрессивный аргумент в дискуссиях о нём.
Потребовать — прежде всего, от себя и от собеседника — полного и глубокого объяснения всех известных фактов.
Это означает, что, объявив мозг квантовой системой, мы должны описать его структуру, динамику, назначение, а также привести разумные аргументы в пользу нашей точки зрения.
Детально это будет сделано в главе 7. Сейчас ограничимся ключевыми тезисами, не перегружая изложение специальной терминологией и не слишком углубляясь в нюансы.
Квант и бесконечность
Листая учебники по неврологии, нейробиологии, психофизиологии, психиатрии и психологии, вы совершаете путешествие на машине времени. Оказываетесь в прошлом, как минимум 120—130 лет назад, когда не существовало ни квантовой теории, ни математической теории множеств.
Вы прочтёте про нейроны (впервые описаны в 1873 году),10 про скорость распространения биоэлектрического импульса (впервые измерена в 1849 году),11 про психофизический закон Вебера-Фехнера (сформулирован в 1860 году).9
Изучая патологию мозга, вы узнаете о шизофрении (термин предложен в 1908 году),6 психопатиях (1904 год) 13 и неврозах (в конце XVIII века).7 «Википедия» подскажет, что последний термин вроде как уже не употребляется. Но взявшись за общепринятую «Международную классификацию болезней» 10-го пересмотра, вы убедитесь, что категория «Невротические расстройства» там есть.4
Так что, более чем двухсотлетняя научная традиция жива, соблюдается и не спешит соответствовать познавательным нуждам обычного человека.
Современное знание о мозге вопиюще несовременно. И прежде всего в описании того, без чего нельзя обойтись в разговоре о функционировании любой системы, — её элементов.
Что является структурным элементом мозга?
Мейнстримная нейронаука уверенно отвечает: структурным элементом мозга является его клетка, нейрон.
Тогда: как получилось, что сочетание этих элементов породило во многих отношениях уникальный разум человека?
Ведь, вообще говоря, элемент системы есть её кусочек, строительный материал. Не имея элементов, нельзя построить систему. Имея элементы в достаточном количестве, можно построить систему какой угодно сложности, включая человеческий мозг.
Факты таковы, что мозг есть и у животных. Он тоже состоит из нейронов. Их скопления, нервные узлы, обнаруживается даже у насекомых. Но, очевидно, ни животные, ни насекомые не умеют мыслить и чувствовать, как мы.
Количественный аргумент (в мозге человека нейронов больше, чем у кого бы то ни было) не работает. Потому что число мозговых элементов, например, у нас и у современных обезьян, вполне сопоставимо (80—90 миллиардов и 20—30 миллиардов соответственно).
По той же причине буксует качественный аргумент (предположение об особом типе организации нейронов в нашем мозге). У шимпанзе структура нейронных связей ничем принципиально не отличается от таковой у человека.
Следовательно, признавая (у любых известных нам живых существ, включая и человека, и животных) мозговым элементом нейрон, мы встаём на позицию этакого нейробиологического центропупизма.
У нас-де пазл сложился, а у сотен тысяч других, живших до нас и живущих с нами на одной планете, биологических видов — нет. Более того: по какой-то загадочной причине не складывается до сих пор.
Можно ли объявить элементом мозга мысль? Или, скажем, сложное чувство — любовь, сострадание, зависть? Т.е. некий, специфический для человека, феномен или даже эпифеномен?
Можно. Так делают философы, художники, учёные с базовым гуманитарным образованием и (внезапно) «когнитивные специалисты», мечтающие оцифровать мозг человека.
Однако возникают те же трудности. Как из нейронов нельзя сложить другой живой мозг, так из мыслей и чувств не получается создать нечто, похожее на разум. Даже если эти мысли и чувства обозвать, к примеру, «когнициями» и выдумать, что они шифруются бинарным кодом.
В противном случае поклонники «цифрового мозга» уже давно бы праздновали своё грядущее бессмертие, а люди, перепуганные сказками про искусственный интеллект, полезли бы прятаться в подземные убежища.
Природа проблемы одна и та же: отсутствие эквивалентности.
Живая клетка — такой же феномен, как мысль или чувство. Этот феномен, несомненно, является проявлением реальности. Однако наша способность давать чему-либо название ещё не гарантирует объяснение всех взаимосвязей данного объекта, как с другими объектами внутри системы, так и с внешней средой.
Нейробиологи, описывая «нервную систему» как эпифеномен, её элементом называют нейрон. Но, определяя тот же нейрон как «живую клетку», подразумевают, в свою очередь, что её элементами являются молекулы и/или ионы.
Философы и когнитивные психологи, рассуждая о «сознании» или «нейронной сети», указывают на такие элементы, как «мысли», «когниции», «адаптивные линейные сумматоры» и пр. Те же категории в их толковании превращаются в феномены высшего порядка по отношению к элементарным «ноэмам», «семемам», «сигналам», «импульсам» и т. д.
На своём, отдельном, уровне каждая такая конструкция выглядит безупречной. Она может быть собрана и даже может функционировать. Но беда в том, что собранные все вместе, со всех уровней, конструкции не работают как единое целое.
Попробуйте взять все астрофизические, астрологические, философские, поэтические и экологические тексты, посвященные Солнцу, и соедините их, без потери исходных смыслов, в коротенькое, из нескольких предложений, резюме — тогда вы вообразите масштаб задачи, которую решают сторонники феноменологического подхода к проблеме моделирования мозга.
Вы уже, верно, догадались, что идти следует не вверх, а вниз. Вниз — значит вглубь. Подальше от феноменов, поближе к физическому фундаменту.
Мозг можно рассмотреть с позиции хорошей, т.е. проработанной и многократно экспериментально проверенной, физической теории. Например, с позиции классической теории электродинамики.
Для этого имеются веские основания. Нервный импульс, мембранный потенциал, эпилептический приступ — электромагнитные явления. Информация, которую мы получаем о мозге при помощи, скажем, томографии, не что иное, как результат движения электронов.
Тогда элемент мозга — субатомная частица, электрон.
Идея привлечения физической теории мне нравится. Потому что всякая признанная в физике теория суть широкое и глубокое объяснение. Но подумаем вот о чём.
По результатам многочисленных экспериментов нейробиологи выяснили, что диапазон амплитуды напряжения мембраны (т.н. «трансмембранный потенциал») в живых клетках составляет от 40 до 80 мВ (10—3 вольт).16
То же справедливо для нейронов в нашем мозге. Коротко говоря, поддержание указанного градиента электрического потенциала гарантирует возбуждение нервного волокна и — путём передачи этого возбуждения дальше — движение сигнала.
Как меняется трансмембранный потенциал?
За счёт перемещения электрически заряженных атомов или молекул (ионов) в клетку и/или из клетки.
А в чём состоит физический смысл градиента?
В том, что для одного ионного канала при изменении амплитуды напряжения с 80 до 40 мВ в возникающем электромагнитном поле совершается работа в 1 Джоуль по переносу 2,4·1017 электронов. Речь идёт о движении сотен квадриллионов (!) субатомных частиц.
Учитываются ли траектории каждой частицы в вычислениях?
Нет, не учитываются.
Почему?
Потому что в классической электродинамике объектом наблюдения является поток, а не частицы, из которых он складывается. Электромагнитный феномен («процесс») объективен, а индивидуальные траектории электронов («события») несущественны.
Увы, теория электромагнетизма нам не поможет. Закон Ома для мозга не годится.
Если б электромагнитными феноменами можно было объяснить всё, что происходит в мозге — включая его интеллектуальные продукты, воспоминания, сложные эмоции и пр. — на этом разговор бы завершился. (Такие попытки делались и делались многократно в период расцвета рефлекторной теории — подробнее см. главу 3.)
Но сегодня, пожалуй, даже ребёнок, смотрящий мультики про монстров, не поверит в то, что путём втыкания в бездыханное тело электродов его можно оживить.
Тем не менее, мы — на верном пути. При построении модели сложной системы и вправду хорошо бы (правильно, целесообразно, необходимо и т.д.) рассматривать элементы на самом фундаментальном уровне бытия — там, где обитают субатомные частицы.
Кстати, а что это вообще такое?
Физики утверждают, что в природе существуют «частицы вещества» (фермионы) и «частицы взаимодействия» (бозоны).
К первым относятся, например, электроны и кварки, формирующие протоны и нейтроны. Ко вторым — фотоны.
Электрон — такая же стабильная частица вещества, как протон и нейтрон. Вместе они образуют каркас атома, но не являются прямыми переносчиками энергии внутри него.
Каркас склеивают бозоны. Именно они ответственны за действие в физическом смысле.
Некоторые бозоны называют виртуальными частицами. Характеристика «виртуальные» условна: их нельзя обнаружить при помощи приборов как дискретные частицы, зато можно зафиксировать как волны.
Так, в 1983 году были открыты W- и Z-бозоны, ответственные за слабое взаимодействие.8 Скажем, при т.н. «бета-минус-распаде» в нейтроне один из трёх кварков преобразуется так, что вместо нейтрона появляется протон. А также — короткоживущий «виртуальный» W-бозон. Он, в свою очередь, распадается на стабильный электрон и антинейтрино. В результате один фермион (нейтрон) превращается в два фермиона другого типа (электрон и протон), имеющих, к тому же, противоположные электрические заряды.
Что нам это даёт?
Во-первых, гораздо более сложную картину взаимодействия субатомных частиц, нежели та, к которой мы привыкли со школы.
Во-вторых, получается, что, строго говоря, межядерные и электромагнитные взаимодействия нужно рассматривать в рамках единой теории. Физики так и поступили, назвав эту концепцию теорией электрослабого взаимодействия.
Тогда электромагнитное взаимодействие по своей природе суть обмен бозонами между фермионами.
Тогда представлять изменение трансмембранного потенциала клеток в мозге как движение электронов — грубое упрощение.
Тогда источником/участником всякого мозгового «процесса» и «события» — т.е. действий на самом фундаментальном физическом уровне — является бозон.
Игнорировать эти следствия при обсуждении мозговых феноменов, по меньшей мере, странно.
Небольшой пример.
Откройте любую книгу по нейрофизиологии: прочтите о механизме возникновения цветового ощущения. Пишут, что свет в сетчатке преобразуется в энергию электрического сигнала — внешние фотоны как-то меняют конфигурацию молекулы родопсина, что названо красивым словом «фотодиссоциация». 3,14
Что происходит с родопсином и почему? Что именно делают фотоны с электронами? Куда и каким образом возбуждённые электроны перемещаются (летят? излучают? падают, отражаясь или поглощаясь?) — да ещё так, чтобы возник конкретный для мозга смысл? Как это всё понять?
Никак, если забыть, что фотон — это тоже бозон. И, следовательно, при падении света на сетчатку речь идёт о фермионно-бозонном взаимодействии.
Впрочем, привлечение субатомных частиц в разговор о мозге, само по себе, мало что значит.
Физики сочинили какую-то теорию, пускай, подтвержденную экспериментально. Ну, и что?
Допустим, что мозг состоит из более мелких, чем нейроны-молекулы-атомы, элементарных единиц. Но это никак не проясняет механизмы (способы, принципы и т.д.) их взаимодействия.
Верно. Придётся нырнуть поглубже.
Для описания взаимодействия фермионов посредством бозонов на микро-уровне любой физической системы введено понятие «квант».
Подробно о квантовой парадигме мы поговорим в главе 5. Сейчас очень кратко заметим, что квант — это неделимая порция энергии, значение которой может быть различным. Содержание кванта принципиально неопределённо.
Поясним это.
Бозоны постоянно взаимодействуют. Результат их взаимодействий — «событие» — точно предсказать нельзя. Почему? Потому, что самый «процесс» взаимодействия нетривиален. Он представим как состояние, при котором бозон (или несколько бозонов) одновременно находится во всех потенциально возможных точках пространства или энергетических состояниях.
Такое нестойкое положение называют суперпозицией. Поскольку содержание кванта неопределённо, то суперпозиция бозонов (условный «процесс») обязательно редуцируется до любой возможной устойчивой конфигурации — фермиона с разрешенным местоположением и не нарушающим принцип сохранения количеством энергии (условное «событие»).
Когда физики говорят, что фотон — это квант электромагнитного взаимодействия, то имеют в виду вот что.
На более высоком уровне обобщения (в теории электрослабого взаимодействия, где электромагнетизм, радиоактивность, оптические явления — разные стороны одного и того же) квантовая суперпозиция бозонов — не частица и не волна, не «событие» и не «процесс». Но нечто такое, что при определённых обстоятельствах проявляет свойства того и другого.
Следовательно, при падении света на сетчатку мы имеем дело не с потоком фотонов и не со световой волной, а с суперпозицией бозонов — внешних и внутренних, составляющих связи между фермионами атомов и молекул светочувствительных клеток глаза.
Значит, в момент поляризации мембраны нейрона мы наблюдаем не движение электронов и не электромагнитную индукцию, а суперпозицию бозонов — внешних и внутренних — ответственных за перенос энергии между фермионами перемещающихся ионов.
Итак, ответ найден.
Структурными элементами мозга являются субатомные частицы, бозоны. Способы взаимодействия этих элементов следует понимать как квантовые суперпозиции и их результаты. Отсюда — центральный тезис книги: мозг есть квантовая система.
Ортодоксально настроенные учёные, составляющие мейнстрим нынешней нейронауки, отвергают попытки описать мозг на микро-уровне с привлечением квантовой парадигмы. Они предпочитают оставаться на уровне классической электродинамики и не заглядывать в тёмный подвал, куда строители забыли провести электричество.
Их поддерживают «говорящие головы» и те, кто хотел бы до скончания времён обсуждать мозг исключительно в философских и/или психологических терминах. Они летают в облаках: у них — искания и порывы в виде благородной миссии по воспитанию человечества.
Всё это очень мило. Но если мы всерьёз взялись за самопознание, то не худо бы исходить из актуального знания, а не пересказывать друг другу сказки вековой давности. Тем более, что квантовая теория является общепризнанной научной концепцией уже добрую сотню лет.
Нам остаётся пояснить, причём тут «бесконечность», соседствующая в названии этой подглавы с термином «квант».
Это очень просто. Особенность квантовой суперпозиции в том, что количество состояний (местоположений, значений импульса и пр.) участвующих в ней бозонов бесконечно. В науке бесконечностью ведает математика и, в частности, теория множеств.
Таким образом, суперпозицию структурных элементов мозга можно представить ещё и как математический объект — бесконечное множество (подробнее — см. главу 6).
Хаос и становление
Даже неспециалисту очевидно, что в нашем мозге постоянно происходит какая-то движуха.
Человек не может перестать думать или чувствовать. Воспоминания то всплывают, то исчезают; переплетаются в причудливые конструкции, состоящие из реальности и фантазии. От рождения и до смерти — всегда, не исключая состояние сна — в нормальном мозге бродят какие-то образы.
Если вы более-менее следите за новостями науки, то к самонаблюдению можете добавить факты. Например, явление т.н. «нейрогенеза» — клетки мозга постоянно обновляются.
Что это за динамика, и откуда она берётся?
Нейроучёные пытаются определить это при помощи функциональных и визуальных методов: прежде всего, электроэнцефалографии и томографии.
В народе электроэнцефалографию (ЭЭГ) называет «шапочкой» из-за особенностей методики. К голове подводятся электроды, закрепленные на своеобразном шлеме из ткани или силикона.
«Шапочка» применяется для распознавания аномальных очагов биоэлектрической активности мозга. Например, при эпилепсии. У нормального мозга — своя картина биопотенциалов, благодаря чему мы можем четко различить, скажем, бодрствование и сон.
Ядерная магнитно-резонансная томография (или просто «томография», ТГ) также уже знакома многим. Очень популярный метод в современной медицине.
На практике особенно важным является то, что ТГ позволяет увидеть состояние мозговых сосудов (проницаемость, степень расширения/сужения и пр.), а также — общую гемодинамическую активность его отделов.
Некоторые полагают, что перманентный мониторинг мозга при помощи «шапочки» и томографии — наше неизбежное будущее.
Дескать, со временем устройства уменьшатся до компактных размеров. Их станут носить на руках (?), как модные сегодня фитнес-браслеты, шагомеры и прочие «умные часы». Человек сможет следить за динамикой собственного мозга онлайн.
Возможно, так и произойдёт.
Вот, только извлекаемая посредством этих методов информация имеет примерно такую же диагностическую ценность, как частота пульса или температура. Это важные, но сильно обобщённые и усредненные, параметры.
ЭЭГ и ТГ — нейробиологические градусники. Они демонстрируют общие симптомы процесса. Но ничего не говорят о его причинах.
Биопотенциалы, отраженные в электроэнцефалограмме, не что иное, как суммарные электромагнитные колебания клеток мозга. Ключевой характеристикой считается частота/длина волны. Различают диапазоны волн для физиологических состояний: скажем, для бодрствования и нескольких фаз сна.1
Но откуда берутся и как именно формируются диапазоны, «шапочка» не расскажет. Думаю, чтобы понять, спит человек или бодрствует, ЭЭГ не требуется.
Нейровизуализацию особенно хвалят за наглядность. Нечего сказать, картинка красивая: вы наблюдаете подкрашенные на мониторе зоны мозга, графическое отражение его гемодинамики. Можно, например, узнать, что арифметическая операция, сложение двузначных чисел, в вашем мозге «активизирует большую оксигенацию в теменной доле и задней части лобной доли». 5
Однако, как и почему миллионы/десятки миллионов клеток мозга проявляют активность, ТГ не ответит. Знание о том, что вы решаете арифметические задачки теменной и лобной долей мозга, никак не повлияет ни на скорость, ни на результат вычислений.
Поясним: нет никаких сомнений в пользе ЭЭГ и ТГ для диагностики грубых мозговых нарушений. Важно узнать, что формируется эпилептический очаг или участок с дефицитом кровоснабжения. В связи с этим можно провести профилактические мероприятия — назначить соответствующие лекарства и предотвратить мозговую катастрофу или хотя бы уменьшить её масштаб.
Но оба метода имеют своим предметом феномены макро-уровня. И не фиксируют ни тонкие нарушения, ни нюансы нормальной мозговой динамики.
Между тем, попытка описать микродинамику мозга — далеко не узко-теоретическая научная задача.
Во-первых, поскольку мы до сих пор не понимаем, что такое «мысль», «идея», «образ», «сложное чувство» и пр.; как именно всё это информационное многообразие рождается и трансформируется в разуме — нельзя этим управлять. Не в смысле пресловутого «контроля сознания» для каких-нибудь зловещих целей, а в простом, житейском, значении: для прояснения, в какой форме и сколько информации в данных условиях мы можем усвоить с максимальной эффективностью.
Заметим: все существующие сегодня рекомендации по психогигиене, психофизиологии труда и отдыха, психопрофилактике и пр. опираются на данные, полученные при изучении мозговых макро-феноменов.
Во-вторых, существует огромный пласт психических расстройств, у которых просто-напросто отсутствует указание на их непосредственную причину (например, шизофрения и аутизм); также есть немалая категория неврологических заболеваний, где причина, по всей видимости, заключается в нарушении механизмов мозговой микродинамики (например, болезнь Альцгеймера).
Но и психиатрия, и неврология в объяснении предполагаемой этиологии тяготеют к рассмотрению макро-феноменов: исследуются отдельные молекулы и молекулярные комплексы, нейромедиаторы, гены и пр.
Если мы хотим создать как можно более полную модель мозга, если мы заинтересованы в исследовании мозговых микро-феноменов (их трансформаций, взаимопревращений и т.д.) и установлении связей с макро-феноменами, нам нужен подходящий для этого инструмент.
Более того: выбранный способ описания должен быть адекватен языку, на котором мы высказались о структуре мозга. Иначе говоря, он должен быть совместим с представлениями о фермионно-бозонных взаимодействиях в рамках квантовой теории.
Существует ли такой инструмент?
Полагаю, что существует. Это математическая теория динамического (детерминистического) хаоса.
И, в таком случае, следует говорить о динамической системе «мозг-среда».
В соответствие с математической теорией хаоса, мы постулируем, что взаимодействующие элементы системы «мозг-среда» непрерывно совершают колебательные движения, формируя динамические конфигурации (физическое представление: суперпозиции бозонов).
Устойчивость режима колебаний — т.е. собственно микродинамика мозга — зависит от значения внешнего и внутреннего возмущающего фактора. В обеих формах этот фактор может быть описан и как биологический, и как информационный. Однако на уровне фундаментальной физической реальности он суть энергия бозонных взаимодействий.
Математическая теория хаоса даёт понятие о трёх основных динамических режимах. Мы полагаем, что все они представлены в системе «мозг-среда».
Минимальное значение возмущающего фактора позволяет системе сохранять равновесие (условно говоря — «состояние покоя», которое можно ассоциировать с повседневной коммуникацией).
Увеличение значения возмущающего фактора вынуждает систему перейти в преимущественно периодический режим (состояние регулярной когнитивной нагрузки — например, во время обучения, когда требуется что-нибудь запомнить, вычислить и пр.).
Наконец, при высоком, критическом для системы, значении внешнего возмущающего фактора (допустим, интенсивная интеллектуальная работа) или, наоборот, при его отсутствии (для нормального мозга — например, сенсорная депривация и, отчасти, состояние сна; для патологического мозга — скажем, шизофренический психоз) в системе будет наблюдаться преобладание хаотического режима.
Детально математическая теория хаоса рассматривается в главе 6; о её прикладном значении для характеристики нормальной и патологической микродинамики мозга вы можете прочесть в главе 7. Здесь мы лишь подчеркнём особую роль хаотического режима.
Сверхбыстрые сочетания суперпозиций элементов осуществляются в мозге постоянно и возможны только благодаря такому состоянию системы как динамический хаос.
В результате суперпозиции «схлопываются» и мозговые элементы превращаются в «событие». Эта — застывшая, но всегда готовая к новой трансформации — комбинация элементов и есть «мысль».
События-мысли могут быть бессмысленными и/или бесполезными (что соответствует, например, содержанию большинства наших снов). А могут стать ценными догадками, прозрениями, идеями.
Таким образом, всё, что вы когда-либо сознательно/бессознательно обдумывали, переживали, вспоминали, фантазировали и пр. — одним словом, комбинировали, рождено в хаосе вашего мозга.
Хаос и его результат, мозговое «событие», в данном случае — не метафора, а вполне определённое математическое понятие. Эквивалентным в наибольшей степени выражением для динамического хаоса и его исхода на естественном языке будет термин «становление».
Нужно только уточнить, что в реальном разуме становление мысли ограничено лишь продолжительностью биологического существования мозга. Живая мысль суть подвижная конфигурация, одинаково далёкая, как от Абсолютного Хаоса, так и от Абсолютного Порядка.
Функциональные и визуальные методы описания мозговой динамики, такие, как ЭЭГ и ТГ, скользят по поверхности, не затрагивая сути. Обладая всей полнотой данных о биопотенциалах и томографической архитектуре мозга, мы, тем не менее, обречены пассивно созерцать живописные полотна, ничего не зная об их авторе, его замыслах и намерениях.
Смысл и знание
О назначении «чёрного ящика» на наших плечах ходит такая шутка. Героя анекдота спрашивают, для чего ему нужна голова. Он перечисляет ряд функций, неважно каких, и в конце добавляет: «А ещё я в неё ем».
Зачем человеку мозг?
Ответ не так уж очевиден.
Вариант ответа в рамках идеалистического мировоззрения отсутствует. Потому что нет такого вопроса. Точнее: для идеалиста это далеко не самый главный вопрос.
Если Сверх-Разум придумал и сотворил всё сущее, включая нас, то, во-первых, изначально наш мозг есть нечто ограниченное и второстепенное, значит, размышления о его назначении — пустая трата времени (мы ведь не думаем дни и ночи напролёт о мочевом пузыре — в целом его функция понятна, а в деталях, если интересно, пусть копаются специалисты); и, во-вторых, даже если премудрый Сверх-Разум дал нам мозг для познания высоких истин, то опять-таки важны эти истины, а не инструмент их поиска, и, кроме того, могут быть и другие способы духовного познания (какие именно? об этом повествуют все, существующие в мире, философские и религиозные тексты).
Хорошо известен ответ, принятый в научном мейнстриме. Мозг нужен человеку для адаптации к условиям среды и, более того, возник/эволюционировал как инструмент приспособления.
Поскольку окружающую среду можно описать, как биологическую или социальную (в том числе, информационную), то указанный ответ разбивается на два варианта.
Первый вариант: мозг — биологическая машина для решения сложных эволюционных задач.
Рассказывают, что наши далёкие предки, первые Homo sapiens, уже обладали относительно большим и продвинутым головным мозгом. Адаптируясь к природным условиям, они использовали окружающие предметы в качестве орудий труда и защиты. А впоследствии стали их изготовлять. Это способствовало ещё большему прогрессу нервной системы, что, в свою очередь, привело к возникновению речевой коммуникации, письменности и т. д.
В популярной версии Ричарда Докинза — то же самое, только всё это делали не биологические организмы и не их мозг, а «эгоистичный ген» или группа генов, каковые есть подлинные субъекты естественного отбора.2
Что тут не так?
Во-первых, остаётся непонятным, откуда взялся «относительно большой и продвинутый головной мозг» у наших предков.
Когда я учился в школе, на уроках биологии рассказывали, что кроманьонцы (те самые первые Homo sapiens) жили примерно 50—60 тысяч лет назад. Их мозг анатомически ничем не отличался от мозга современного человека.
Сегодня антропологи утверждают, что кроманьонцы жили 200—300 тысяч лет назад.12,15 Т.е. период исторической жизни нашего мозга, согласно нынешним научным взглядам, увеличился в 4—5 раз.
Выходит, что громадный творческий потенциал человеческого мозга существует уже очень давно.
В связи только с одним этим фактом традиционная апелляция к «промежуточным звеньям», предшествующим появлению развитого мозга у H. sapiens, теряет смысл. Она принимает форму регрессивного аргумента.
А ещё — напоминает известную русскую сказку, где героям, чтобы вытащить из земли репку, пришлось выстроиться в цепочку: дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, мышка за кошку.
Кто та героическая мышка, благодаря которой целая семья не умерла с голоду? Кто этот, вдруг поумневший, наш общий предок — исходное звено эволюции мозга? И значит ли, следуя этой линейной логике, что нам, как и героям сказки, просто повезло — не отзовись мышка, не будь исходного звена, не было бы Homo sapiens? А если всё дело — в удаче, в статистической случайности, то чем это, по сути, отличается от идеалистической концепции чудесного творения?
Во-вторых, совершенно необъяснимо, как и почему озабоченные лишь биологической адаптацией существа реализуют научно-технический и социальный прогресс.
Биологическая машина (пусть, «генно-биологическая машина») под названием «Человек разумный» когда-то удачно приспособилась: научилась эффективно защищаться от хищников, изобрела орудия охоты, додумалась покрывать тело тёплыми шкурами и т. д.
Это замечательные достижения для элемента гармоничной экосистемы, адаптирующегося здесь и сейчас. По образу жизни ряда, ещё сохранившихся на планете, примитивных племён мы видим, что на столь невысоком уровне социотехнического развития можно существовать очень долго.
Но.
Какие такие условия среды вынудили биологические машины (или группу хитрых и коварных генов) копить знание и совершенствовать технологии? Зачем охотники и собиратели бросили свои занятия и вдруг взялись за нудное сельское хозяйство? Для кого сочиняли гипотезы и систематизировали факты древнегреческие философы — кто и для каких биологических целей их слушал? Что за климатический катаклизм заставил римлян строить дороги, и как римское право могло защитить от стаи голодных волков?
Чтобы разъяснить многочисленные несуразности, возникающие в связи с первым вариантом, научный мейнстрим хватается за второй вариант ответа.
Говорят: да, мозг нужен для успешной адаптации, но приспособление достигается не только (а, может, и не столько) биологическими средствами, но и социальными (культурными) инструментами.
Этот вариант широко представлен в работах, где обосновывается т.н. «теория генно-культурной ко-эволюции» и уделяется особое внимание «негенетическим механизмам наследования» (подробно об этом толковании, как и о первом варианте, мы поговорим в главе 8).
Суть ответа в том, что социальная среда (или информационное окружение) детерминирует эволюцию разума. Удачные культурные находки первых Homo sapiens быстро распространились и закрепились среди них благодаря таким паттернам поведения, как подражание и коммуникация. Поначалу биологические вызовы играли важную роль (вместе легче добывать пищу, защищаться от врагов и пр.), постепенно стали доминировать культурные стимулы (расширение коммуникационной среды способствует групповой сплоченности, развитию коллективных форм действий и т.п.). Чтобы всё это делать успешно, нужен сложный мозг.
А тут что не так?
Всё то же.
Как и в случае с первым вариантом, возникает «загадочная загадка» случайного (чудесного?) происхождения исходного мозга, достаточно умного, чтобы изобрести самому или позаимствовать у среды адаптационные усовершенствования, и проблема — в данном случае культурного — прогресса.
Последнее проиллюстрируем рядом хорошо известных фактов.
Наши предки могли подобрать валявшуюся на земле острую палку и защититься ею от хищника. Это, понятно, вынужденное действие в ситуации опасности.
Вместе с тем, в спокойной обстановке (хищника нет) они подбирали тупые палки и, обламывая концы, носили с собой с явным намерением сделать их орудиями в предполагаемой борьбе.
Древние люди оттаскивали трупы умерших родичей подальше от места обитания группы. Это резонно.
Но им почему-то этого было мало: они украшали мёртвые тела, зарывали их в землю, придумывали и осуществляли обряды погребения.
Собиратели отыскивали съедобные растения, предварительно приметив, где и в какое время года те появляются. Это нормальная рефлексия по отношению к дарам природы.
Вдруг у них появилась идея: съедать не всё, часть семян откладывать, чтобы запланировать появление урожая — вообразить во многом не зависящее от усилий человека событие.
Наконец, примем к сведению многочисленные свидетельства чисто творческой деятельности наших предков. Наскальная живопись, амулеты, «палеолитические Венеры» и пр.
Словом, есть немало аргументов и ещё больше фактов, указывающих на недостаточную полноту объяснения, в котором возникновение нашего мозга и его главная функция связываются с давлением естественного отбора или «негенетическими механизмами наследования».
Даже взяв современную версию теории биологической эволюции (т. н. Evo-Devo — см. главу 8), мы увидим громадные «белые пятна».
Исследователи фиксируют странную, противоречивую и порою совершенно иррациональную, картину результатов эволюции разума. Они ясно видят биологическую (зачем так много «ненужных» генов, не кодирующих какие-либо белки?) и функциональную (неужели способность фантазировать, воображать и малевать дурацкие рисунки на стенах пещеры так уж необходима для выживания и доминирования в группе?) избыточность мозга, но бессильны её объяснить.
Почему научный мейнстрим твёрдо держится убеждения, что эволюция — это отбор, прежде всего, необходимого и полезного?
Потому, что на высшей ступени пьедестала науки (и нейронауки тоже) — Её Величество Целесообразность.
Но ведь необязательно должно быть так.
В особенности, если рассматривается сложная система. Такая, как разум.
Трудно поверить в то, что в возникновении и развитии мозга не меньшую роль, чем биологические и/или культурные смыслы, сыграла бессмыслица.
Однако мы рискнём предположить именно это.
Целесообразность важна, но на высшей ступени не она, а Избыточность. Наш разум чересчур многое умеет, чтобы объяснить это только необходимостью адаптации к среде.
Природа и её часть, наш разум, совершают ошибки — это тривиально. Но вся штука в том, что они совершает бесполезные и бессмысленные ошибки, причём в гораздо большем количестве, нежели те, что мы называем «удачными адаптациями».
Более того: бесполезные ошибки сохраняются тоже — как будто нарочно, чтобы мы помнили и ценили весь пройденный к знанию путь.
Наш ответ на вопрос о назначении разума состоит в следующем: мозг необходим человеку, чтобы создавать полезные смыслы и знание из бессмыслицы, вопреки бессмыслице и параллельно бессмыслице.
Поясним это.
Нам придётся ненадолго вернуться к приведённому в начале главы вымышленному диалогу между сторонником теории о круглой подвижной Земле и его оппонентом.
Определим, что в их дискуссии понимать под фактом, смыслом и знанием.
Факт — это, например, наблюдение движущейся шарообразной планеты с борта космического корабля. При этом наблюдение восхода и/или заката Солнца, осуществленное стоящим на поверхности планеты человеком, — тоже факт. То и другое можно выполнить неограниченное количество раз.
Смысл — утверждение, связывающее несколько фактов какой-либо логикой. Например: «Земля — шар, который движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, что подтверждается наблюдениями из космоса и описывается математическими законами Кеплера». Или: «Земля плоская и неподвижная, а Солнце вращается вокруг неё, что подтверждается моими ощущениями и наблюдениями».
Знание — здесь, в узкой трактовке, это теория, обобщающая дополняющие друг друга смыслы. Например: «Взаимодействие подвижной планеты (в частности, Земли) и неподвижного светила (в частности, Солнца) обусловлено силой гравитации и представляет собой решение задачи двух тел в механике Ньютона». Или: «Земля плоская и неподвижная, а все факты о её шарообразности и движении — выдумка, фейк. Существует группа наделённых большой властью людей, которые, в целях сохранения своего негласного влияния, финансируют различные масштабные фальсификации (в частности, ложь о круглой и подвижной Земле)».
Теперь задумаемся: можно ли выделенные нами высказывания каким-то образом формализовать?
Конечно, можно.
Тут нет никаких затруднений: любой математический язык и логика легко позволяют это сделать (т.е. над данными высказываниями можно совершать логические операции и вычисления — в том смысле, как это описал Джордж Буль и Алан Тьюринг; подробнее — см. главу 4).
Тогда факты, смыслы и знание (теории) могут быть сопоставлены между собой по критерию вычислимости.
В процессе реализации/проверки отдельных высказываний часть из них будет приводить к одному и тому же результату (такие высказывания мы назовём вычислимыми), а другая часть — к разным результатам или к такому исходу, при котором результат остаётся неясным (невычислимые высказывания).
Теперь сравним теории из нашего примера.
При самом поверхностном рассмотрении мы увидим, что теория о круглой и подвижной Земле почти полностью состоит из вычислимых высказываний-фактов.
Астрономические наблюдения и наблюдения из космоса, касающиеся не только нашей планеты и нашего светила, но и других объектов, совпадают. Решение задачи двух тел в астрономии и в других областях, например, в электростатике, суть одно и то же.
Единственное, что не является вычислимым в этой теории — существование гравитационного взаимодействия и, более конкретно, его переносчиков, гравитонов. Это и только это предположение.
Напротив, теория о плоской и неподвижной Земле набита невычислимыми высказываниями.
Для того, чтобы обосновать тезис о фейковости всех фактов про шарообразность и подвижность планеты, надо найти всех причастных к фальсификации людей — показать, как они это проделали; доказать их мотивы; привести документированные примеры других подделок и т. д. Поскольку речь идёт о поведении людей, то должно быть ясно, что каждый новый фактчекинг, проведенный в отношении хотя бы одного «подозреваемого», обернётся, мягко говоря, неоднозначными результатами. Если они вообще будут.
Единственное, что является вычислимым в этой конструкции — те самые субъективные ощущения и наблюдения, на которые ссылался сторонник теории о плоской и неподвижной Земле. Это и только это реально.
Вывод о высокой степени проверяемости теории о круглой и подвижной Земле очевиден.
Однако существенно другое. Космологическая дискуссия, погруженная в логику вычислимое-невычислимое, демонстрирует, с одной стороны, связь между смыслом и бессмыслицей, и, с другой стороны, — между полезным и бесполезным смыслом.
Известно, что дистанция от идеи о земном диске, покоящемся на трёх слонах и гигантской черепахе, до современной космологии велика.
На заре цивилизации в идее о находящихся в основании мира животных был, несомненно, некий смысл. Возможно, выдумка имела какое-то практическое значение для регулирования охоты на слонов и черепах, объявленных на Востоке «священными животными». Существенно, что изначально этот, в некоторой степени полезный, смысл был невычислимым, непроверяемым.
Он остался таковым, когда в античной космологии утвердился другой смысл: Земля неподвижная, но представляет собой шар, а не диск. В предложенной впоследствии геоцентрической системе мироздания конструкция из слонов и черепах выглядела вычурной, громоздкой и оказалась ненужной. Древняя идея трансформировалась в бесполезный смысл (охотники на животных стали потирать руки).
С воцарением гелиоцентрической системы (Земля — не диск и не неподвижная) слоново-черепаховая картина мироздания окончательно перекочевала в фольклор. Астронавты, оказавшиеся в космосе, подтвердили (т.е. произвели экспериментальную проверку, вычислили): гигантских животных не наблюдается.
Сейчас байка о Мировой Черепахе всеми, даже нынешними апологетами плоской Земли, признаётся бессмысленной.
Если вы полагаете, что указанные метаморфозы смыслов и бессмыслицы касаются только глупых сказок и никак не относятся к научным объяснениям, то глубоко заблуждаетесь.
Гравитация — точно такая же выдумка, как Мировая Черепаха.
Причём эта выдумка невычислимая: нет способа бесспорно доказать или опровергнуть существование гравитонов. Для Мировой Черепахи такой способ есть (слетайте в космос и посмотрите), а для гравитации — пока нет.
С одной стороны, придуманная Ньютоном гравитация — очень полезный смысл. Как мы уже говорили, гипотеза использовалась не только в астрономии. Ньютоновская механика помогла построить сложные машины, развить океанский и воздушный транспорт и много чего ещё.
С другой стороны, идея взаимодействия двух тел, одно из которых является сверхмассивным по отношению к другому, скажем, для объяснения строения атома — бесполезный и, если угодно, ошибочный смысл. В данном случае правильный смысл даёт не теория Ньютона, а другая концепция — квантовая теория (см. главу 5).
Наконец, если будет создано более мощное объяснение (например, какая-нибудь версия теории квантовой гравитации), где предположение о существовании гравитонов будет за ненадобностью отсутствовать, и эта новая концепция получит ряд убедительных экспериментальных подтверждений, то гравитацию, как некогда Мировую Черепаху, объявят бессмыслицей.
Мозг непрерывно жонглирует смыслами и бессмыслицей, наслаждаясь бесконечностью их комбинаций.
Причём не только в науке. Эта игра не так уж далека от простых житейских материй, как может показаться.
Скажем, всех чрезвычайно интересует, что о них думают окружающие.
Как психиатр могу засвидетельствовать, что люди нередко выдумывает не свои, но чужие мысли, чувства, намерения. Они делают это очень затейливо, с большой фантазией. Порою догадки-смыслы верны, чаще — ошибочны. Иногда полезны, иногда оказываются полной чепухой.
Или такое наблюдение: люди постоянно что-то планируют.
Это касается работы, отдыха, личных взаимоотношений, карьеры, встреч с друзьями и т. д. Все придуманные планы, как правило, невычислимы. Нередко они касаются действий других людей, которые заранее просчитать нельзя. Несмотря на то, что все планы в точности никогда не реализуются, мы всё равно их строим.
Ещё пример: люди склонны раздувать из мухи слона.
Вокруг лишь одного достоверного факта накидывается тысяча невычислимых высказываний. Никого не смущает, что в итоге наверняка получится бессмыслица. Потому что — не во всех случаях, но с приемлемой частотой — выходит нечто удачное. То, что вызывает сильное чувство: например, арт-продукт или ноу-хау.
Мозг — посредник, свободно балансирующий на тонкой грани вычислимого и невычислимого и беспрепятственно проникающий в обе сферы.
Наш разум состоит из вычислимого числа элементов, которые во всякий момент времени сочетаются невычислимыми (бесконечными) вариантами конфигураций.
Тогда разъясняется «таинственная» избыточность мозга.
В контексте эволюции становится очевидным, что наш разум создаёт смысловое пространство и насыщает его вычислимыми теориями (т.е. знанием).
При этом машиноподобная целесообразность — лишь ипостась. Это способ структурировать полезные, в т.ч. для биологической, социальной и др. адаптации, смыслы. Удобный инструмент, чтобы расфасовать их в легко воспроизводимые (вычислимые) кусочки.
Вместе с тем, обязательно сохраняется возможность производить невычислимое — общий источник, как удачных догадок, так и бессмыслицы. Для живого мозга, в отличие от механизма и микросхемы, «нет ничего святого» ни в научной теории, ни в теории заговора. Ошибки нужны, не только в качестве конкурентной для полезных смыслов среды, но и как новая, никогда прежде не существовавшая, информация.
Остановимся. Отложим подробное обсуждение на потом.
Для этого потребуется привлечь ряд математических моделей, оперирующих понятием сложности. Тогда мы сможем указать на конкретные прикладные аспекты различения смыслов и бессмыслицы, которые могли бы помочь мозгу выполнять его главную функцию.
Открытие?
Не моё, конечно.
Речь об открытии, которое уже состоялось благодаря усилиям нескольких поколений физиков и математиков. О проведенной ими колоссальной интеллектуальной работе в надежде объяснить, что такое мозг.
Свою роль вижу в том, чтобы изложить эти научные догадки и выводы так, чтобы они стали понятны самой широкой публике. Ну, и ещё — поделиться некоторыми собственными — отнюдь не бесценными и совсем не сверхценными — идеями о прошлом и будущем нашего разума.
Прежде, чем вы загрузитесь фактами, смыслами, теориями и плохими-хорошими сказками о мозге, немного порассуждаем об этом предмете с общефилософских позиций.
Обозначим расстановку сил — кто и чего про мозг думает, и к чему это может привести?
Отчасти мы уже касались двух основных категорий мыслителей: идеалистов и рационалистов; про комментаторов и конъюнктурных подпевал тут говорить не будем.
Идеалисты, как известно, в центр всего на свете (Вселенной, общества и пр.) помещают творчество вообще и акт случайного/чудесного творения в частности. Так же они поступают и с человеком.
Обычный разум в их представлении — посредник между Чудом, сотворенным Сверх-Разумом, и реальностью, сотворенной Им же. Иносказательный девиз почти всякого варианта идеалистического мировоззрения: «Будущее — это прошлое!». В том смысле, что всё началось с отделения человека от Сверх-Разума и должно окончиться их воссоединением.
Поэтому идеалистам так мила идея цикличности истории и свойственно скептическое отношение к науке и технологиям. Которые ущемляют (отвлекают, приземляют и пр.) духовное и творческое самопознание. Идеалисты верят в регресс, но в хорошем значении этого слова: самобытность, культуру, традиции. Эти «вечные ценности» победят-де «в конце времён» и суетную реальность, и меркантильный, не желающий сливаться с Абсолютом, разум (см. рис. 1).
Чем, по мнению идеалистов, завершится человеческая история в некоем, отдалённом или близком, будущем — в гипотетическом «потом»?
Она завершится тем, что человеческий разум сольётся со Сверх-Разумом.
В этой связи, между прочим, не нужно заблуждаться относительно трансгуманистов и прочих учёных-гуманитариев, мечтающих о едином ментальном поле (на основе реальных или фантастических технологий), где будет торжествовать принцип всеобщего блага, но при этом каждый сможет полностью реализовать свой «человеческий капитал». Они, как и верующие в райские кущи, — идеалисты (см. рис. 2).
Непосредственным теоретическим воплощением идеалистического мировоззрения является модель «разум и чувство» (см. главу 2) и отчасти — «мозг-компьютер» (см. главу 4).
Сильной стороной такого толкования (особенно в модели «разум и чувство») видится глубокая проработка этических вопросов; слабой — архаичный, всё менее привлекательный, эстетический облик.
Рационалисты-материалисты, как ни странно, в центр человека помещают не разум, а «объективную реальность». Т.е. нечто, что существует помимо нашего восприятия и желаний, и что содержит в себе имплицитное знание — «законы природы», которые требуется открыть.
Разум, с одной стороны, есть часть объективной реальности: из неё возник и подчиняется общим законам. С другой стороны, это суть автономный, наделённый сознанием, субъект: обособился от реальности и трансформирует её по своему хотению. Девиз рационалистов: «Будущее — это настоящее!». В полном согласии с антропоцентрично-потребительским отношением к природе и ортоэволюционным подходом к представлению о развитии общества.
Поэтому рационалисты молятся идолу прогресса. Они обожают науку и технологии (как фанаты рок-звёзд — любят чужие песни, но сами ничего не сочиняют) и презирают интуицию, абстрактные идеи, не относящееся к научному мейнстриму творчество. По их версии, технологически прогрессирующий разум, вооруженный таким мощным инструментом, как вычисления, непрерывно теснит объективную реальность, вырывая из её лап точные ответы на «загадки природы» (см. рис. 3).
Что, по мнению рационалистов, будет «потом»?
Разум человека достигнет Сверх-Знания.
Т.е. такого уровня понимания законов природы, что сможет, как в популярном фантастическом фольклоре, летать на космических кораблях со сверхсветовой скоростью, проникать сквозь «кротовые норы» в любую точку пространства-времени и, само собой, обрести долгожданное «цифровое» бессмертие. То, что это, вообще говоря, противоречит законам физики, рационалистов не смущает. Они верят, что всякая сложная система — Вселенная, человек, мозг — вычислима, значит, тот, кто владеет полной «базой данных» и секретом вычислений, может всё (см. рис. 4).
Мировоззрению рационалистов в теориях о разуме отчасти соответствует научная модель «мозг-компьютер» и полностью — «мозг-машина» (см. главу 3).
Сильной стороной подобной интерпретации является высокая степень технической детализации устройства мозга и принципов его работы; традиционно слабой — пренебрежение этическими проблемами.
Какую философскую нишу занимает наша модель?
Её нельзя назвать промежуточной или релятивистской по отношению к идеализму и рационализму. И уж, конечно, к праздной и дряхлой идеологии постмодернизма она тоже никак не относится.
Можно нашу модель посчитать точкой зрения реалиста; здравым смыслом, помноженным на привычку проверять факты и мониторить свежие научные идеи.
Но вернее определить её как проявление информационного конструктивизма. Или, упрощённо и нестрого, инфомании.
Т.е. такого, свободного от предрассудков и идеологем, мировоззрения, которое признаёт в человеке главным жажду познания себя и мира, стремление создавать разнообразные, полезные и не очень, информационные конструкции.
В центре всего — разум.
Через творчество и вычисления мозг формирует реальность. Эта реальность не объективная и не субъективная: для нас, людей, она всегда была смешанной. Такова обусловленная нашим мозгом особенность, а всякая особенность есть преимущество.
Смешанная реальность, насыщенная, в том числе, технологиями и чрезвычайно сложными социальными системами, давит на нас, вынуждая разум, как рационализировать, так и фантазировать — накапливать и знание, и откровенную абракадабру для массового употребления. Однако сам мозг не спешит полностью подчиниться социотехнической моде: он дорожит свободой и не прочь время от времени потакать своим биологическим капризам.
Так что, modus vivendi для современного мозга — соблюдение баланса. Он может только вычислять, причём с помощью устройств небывалой мощности — но предаётся сантиментам и грёзам. Он уже может существовать без вычислений, занимаясь исключительно творчеством — но не доверяет автоматам. Прогресс и регресс парадоксально сосуществуют в тренде глобальной балансировки (см. рис. 5).
Как долго продлится баланс? В какое «потом» качнётся разум?
Несомненно, что это «потом» не будет точь-в-точь похоже ни на одно «сейчас» или на какое-либо «тогда».
Однако общее предсказание допустимо: мозг стремится стать творческим разумом. Не обремененным лишними вычислениями (прогрессоры и любители «искусственного интеллекта» не разочаруются) и значительно развив интуитивные способности (на улице идеалистов тоже будет праздник).
Правда, мозгу придётся попотеть. Чересчур многое нужно переосмыслить (в том числе — о самом себе); изобрести эффективные средства переработки и доставки информации, чтобы хорошенько перелопатить и систематизировать накопленные её объёмы. Тем более, мозг небезосновательно предполагает: информации в ближайшее время станет куда больше.
В этом — подлинный смысл текущей пробуксовки социогенеза и научного познания.
Заметим, что вряд ли остановка продлится дольше 2—3 десятилетий. Движение возобновится. Причём с невиданной для человечества скоростью (см. рис. 6).
Как бы там ни было, это не философское сочинение — книга посвящена научному объяснению устройства и работы мозга.
Оттого было бы уместно обозначить некую общую схему, по которой мы собираемся действовать.
В ней должен быть отражен последовательный план описания доминирующей научной парадигмы; соответствующей ей научной модели мозга, а также — логики и стратегии познания, лежащей в её основе.
Хорошо известно, что наступление т. н. Нового Времени тесно связано с философией индуктивизма (говоря кратко: истина — из опыта).
Одним из самых громких его глашатаев был мыслитель Фрэнсис Бэкон. Который буквально боготворил индуктивную логику, считая её единственным способом поиска истины. В том же XVII веке, что жил Бэкон, сформировалась идея о Вселенной-машине и мозге-машине. Работы Рене Декарта, объясняющие разум, можно трактовать не только как попытку ограничить иррациональное в учении о душе, но и как стремление описать магистральный путь познания.
Механический мозг ощупывает механический мир механическими, индуктивными, приёмами — что может быть логичнее?
Дедуктивизм (истина — из самого вероятного) не стал целостным философским учением.
Однако со всей определенностью можно указать на время, когда в методологии научного познания приоритетными стало считаться построение гипотез, а не простое обобщение наблюдаемых фактов. Это середина XX века: начало популяризации работ философа Карла Поппера, привлекшего внимание к проблеме проверки научных теорий. Кроме того, это время появления первых цифровых девайсов и формулировки Джоном фон Нейманом и Норбертом Винером тщательно проработанного представления о том, что мозг есть компьютер.
Действующий на бинарном коде природный вычислитель, сортирующий теории на «проверяемые» и «непроверяемые» — что может быть логичнее?
Мы можем не дождаться какой-либо философской концепции, превозносящей абдукцию (истина — из сочетания вероятного и «невозможного»; подробнее об абдукции см. в главе 4).
Тем не менее, нечёткая логика в науке существует уже с 1960х гг. Она ещё совсем юна, но находится в гораздо более тесной коллаборации с глубокими объяснениями, нежели доминировавшие когда-то индукция и дедукция. Эти объяснения — например, теория множеств и квантовая теория — позволяют описать и растолковать значительно больше фактов, чем прежде. И хотя наш мозг всё ещё им не по зубам, нет сомнений, что его черёд наступит. Противоречивость человеческих поступков, парадоксальность интеллектуальных озарений, непредсказуемость эмоций поддаются целостному описанию в абдуктивной логике, учитывающей бесконечное число элементов системы и сочетания вероятностей всех её состояний.
Хаотично структурированный квантовый мозг, способный одинаково свободно оперировать вычислимым и невычислимым: что может быть логичнее?
Идеалисты и рационалисты в равной степени тяготеют и к индуктивизму, и к дедуктивизму.
Вы легко найдёте верующего учёного, успешного в своей профессии. И без труда отыщите суеверного атеиста, приверженца традиций и «народных примет».
Ничего удивительного в этом нет: тип мировоззрения не связан прямо с типом предпочитаемой человеком логики.
Однако что-то подсказывает нам: то и другое безнадёжно устарело в XXI веке. Эволюция нашего мозга, равно как социогенез, достигли беспрецедентного уровня сложности. Чтобы в этом разобраться, смотреть на мир и на самого себя с позиций «идеальное/материальное» и/или рассуждать в категориях «общего/частного» — не просто недостаточно, но и ошибочно.
Итак, желая покончить с вопросом об идентификации нашей модели — ответить на вопрос «Кто ты, автор, и в какие дебри хочешь нас завести?» — я сообщаю, что представленное в рукописи объяснение есть вариант квантовой модели разума. И проявление абдуктивизма (см. табл. 1).
Считаю, что предлагаемое структурное, динамическое и функциональное описание мозга является сильной стороной данной модели. Поскольку сделано на базе квантовой теории и современных математических концепций. О привлекательности этического и эстетического содержания предоставляю судить читателю.
Самое лаконичное изложение нашей модели сводится к тезисам:
— Мозг состоит из конечного числа элементов, порождающих во взаимодействии друг с другом и со средой бесконечные множества мыслей, вычислений и действий. Существенно, что взаимодействие элементов суть непрерывный синтез квантовых суперпозиций.
— Элементы мозга во всякий момент времени находятся в том или ином динамическом режиме. Самый важный из них — хаотический, благодаря которому появляется новая информация.
— Цель разума — производство смыслов и знания. Смысл не всегда решает адаптационные задачи. Но даже бесполезные и/или невычислимые смыслы посредством, например, конкуренции способствуют становлению полезного смысла. Ряд таких смыслов составляет живой, неустойчивый и, вместе с тем, упорядоченный, процесс — знание.
Наука о мозге соткана из созданных им же догадок, идей и вычислений. Законы природы (или то, что мы называем «законами природы») не противоречат этой реальности, а органично с ней сочетаются.
Можно думать, что мы их открываем или нам их позволяют открывать. Но, вернее всего, мы конструируем их по собственному образу и подобию. На это указывают лучшие научные теории и учитывающий наибольшее число разумных предположений тип логического рассуждения, абдукция.
Объяснение — как выражение универсальных закономерностей и как интерпретация нашего разума — должно быть стройным, чистым, ясным. Критерий полезности не менее важен, чем красивая обёртка и безупречное, с точки зрения этики, содержание.
Даже не обладая абсолютной полнотой, такое объяснение даёт надёжные практические прогнозы. В отличие от покрытых плесенью теорий и запутанных, претендующих на всеохватывающую мудрость, сюжетов, каждый пласт которых подобен очередной черепахе. Сказки, может, и дают пищу для ума, но не создают ни предпосылок, ни энергии для интеллектуального движения.
Познание есть бесконечное и увлекательное действие. Это так же верно и просто, как то, что круглая Земля вращается вокруг Солнца, а завтра наступит новый рассвет.
И никакой тайны тут нет.
Рисунки и таблицы к главе 1
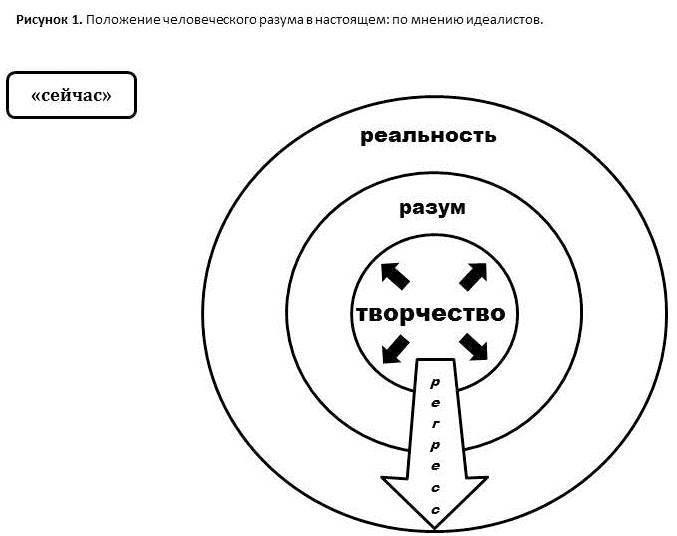






Глава 2. Мозг чувствующий
Наверно потому, что всё это мои чувства —
Одновременно радостно и почему-то грустно…
«Время и Стекло» раскрывают тему
Эврика!
математик Архимед во власти эмоций
Воротилы мысли
Существуют такие онтологические проблемы, полное и окончательное решение которых до сих пор не найдено, и неизвестно — будет ли найдено вообще. Во все времена люди, так или иначе, интересовались этими проблемами, формулируя их примерно так:
— вопрос №1 — Как устроен и как возник разум?
— вопрос №2 — Как устроена и как возникла Вселенная?
— вопрос №3 — Как устроена и как возникла жизнь?
— вопрос №4 — Какова природа бытия: из чего состоят разум, Вселенная, жизнь и всё остальное?
Порядок важности этих вопросов зависит от индивидуальных предпочтений и может быть произвольно изменён. А, вот, порядок формирования знания о каждом предмете всегда один и тот же.
Сначала появляется догадка, отвергающая устоявшееся представление. Затем — структурированная новая теория, поначалу конкурирующая со старым объяснением на равных. Впоследствии альтернативная теория побеждает в серии экспериментальных проверок (а также потому, что способна хорошо объяснить нарастающий поток новых фактов и наблюдений). Наконец, молодая теория сама утверждается в качестве мейнстрима, заполняющего всё смысловое пространство, и порождает прикладные теории, концепции, технологии.
Ответы на четыре, перечисленных выше, вопроса естественным образом переплетаются, а иногда попросту дублируют друг друга. Скажем, метафоры, объясняющие мир, переносятся на разум; живые и неживые системы оказываются состоящими из одних и тех же элементов и т. д.
В этом хитросплетении гипотез, теорий, концепций важно увидеть первичное зерно — идею-догадку, ставшую интеллектуальной инновацией. У каждой эпохи, не исключая самые дремучие времена, такие инновации были.
«Воротила мысли» — выражение, употребленное однажды виконтом де Вогюэ по отношению к Максиму Горькому. Выражение ироническое, но, думаю, не без изрядной доли уважения. Ведь именно так можно назвать людей, предлагающих или красиво формулирующих новые идеи.
Воротилами мысли были древнегреческие исследователи и философы, впервые предложившие во многом популярные до сих пор представления о природе человека.
Наверное, справедливо восхищаться отдельными догадками и идеями мыслителей далёкого прошлого, но главный их тезис об устройстве и работе мозга абсолютно ошибочен. Ему отводилась второстепенная роль или вообще не придавалось какого-либо значения в формировании сложнейшего поведения человека.
Центральным понятием был не разум, а душа.
Кротонский врач Алкмеон, живший в V веке до н.э., проводил анатомические изыскания. Как, вероятно, многие пытливые умы до него, он зафиксировал вполне очевидный факт: внутри человеческого тела есть множество длинных тонких волокон (др.-греч. neura), которые тянутся от мышц к помещенному в череп мозгу.
Следовательно, этот орган каким-то образом управляет телесными мышцами, координирует их движения.
Но Алкмеону также было ясно, что это сфера телесного, материального начала. А в человеке, несомненно, есть ещё и духовная составляющая. Нетленная и бессмертная душа (др.-греч. psyche). Она-то и выполняет самую сложную работу — мыслит и чувствует. То, что на это способен мозг, врач вообразить не мог.
Алкмеон был сыном своего времени: разделение душевного и телесного представлялось ему естественной идеей.
Примечательно его, одно из немногих дошедших до нас, высказывание: «У человека большею частью всего по два». 10 Полагаю, речь шла не только об анатомии.
Примерно через сотню лет после Алкмеона врачи практиковали уже в совершенно других условиях. Действовал запрет на вскрытие человеческих тел. Новых фактов не прибавлялось, а остроумные догадки были редкостью.
Вместе с тем приблизительно в IV век до н.э. на Западе зародилась профессиональная медицина (отцом которой по праву считают Гиппократа). Специалисты в области здоровья обособились в отдельные медицинские школы. У каждой из них была своя теория и свой взгляд на функции мозга. В чём-то эти взгляды сходились, в чём-то противоречили друг другу.
Сам Гиппократ, признавая существование души, не различал собственно нервные волокна и сухожилия — всё это именовалось «нервами», по которым бегали «животные духи». 11
В трактате «О сердце» из Гиппократова Корпуса (что, впрочем, не означает, что все входящие в него сочинения написаны самим Гиппократом), например, утверждалось, что «ум человека пребывает по природе в левом желудочке [сердца — Р.Б.] и управляет остальной душой».
Из другого трактата узнаём, что «мозг подобен железе», и он «бел, рыхл, как железы, …оказывает голове те же услуги, какие оказывают железы: именно, на основании изложенного мною, помогает удалению влаги».
А, вот, скажем, автор трактата «О священной болезни» безапелляционно заявлял, что «мозг имеет весьма великую силу в человеке, ибо, находясь в здоровом состоянии, он бывает для нас истолкователем всего того, что происходит от воздуха, но самое понимание дает ему воздух». 8
Очевидно, последнее утверждение связано с традиционными для того времени представлениями, где одним из первоэлементов признавался воздух.
Такую отсылку в медицинском сочинении видеть непривычно. Однако ничего удивительного в этом нет. Осмысление самой сложной, познавательно-интеллектуальной и чувственно-иррациональной, деятельности человека считалось профессиональной обязанностью философов. Настоящими «лидерами мнений» в Древней Греции были именно они, а не врачи.
При этом почти каждый мудрец верил в существование души.
Демокрит, которого полагают первым материалистическим мыслителем, считал, что душа распределена по разным органам и частям тела человека: включая не только мозг, но и печень.1
Сократа и Платона относят к мудрецам, проповедовавшим идеалистическое мировоззрение. В их понимании душа есть бессмертная и вечная сущность, обитающая в голове, груди и желудке. Парадоксально, но при этом, в отличие от материалиста Демокрита, идеалист Платон доказывал, что в познании рациональное предшествует чувственному.14
Аристотель из всех античных философов ближе всего подошёл к современному толкованию термина «личность» (потому-то популярен до сих пор: особенно среди психологов и педагогов). Он описал душу как нечто такое, что оживляет тело (в том числе — мозг), заставляет его двигаться, ощущать и, в то же время, обладает индивидуальными особенностями. Аристотель предложил свой вариант местоположения души (вернее, её части: т.н. «пассивного, телесного ума») — в сердце.9
Бытует мнение об извечном антагонизме «западной» и «восточной» точки зрения. Однако, по крайней мере, в рассматриваемом нами вопросе это не так.
Наоборот, находятся замечательные подтверждения исторического параллелизма между философией Запада и Востока.
Древнекитайские воротилы мысли по остроте ума ничуть не уступали древнегреческим коллегам.
Они полагали, что бытие во всем многообразии пронизано вездесущей космической энергией ци (у греков существовало близкое по смыслу понятие «пневма», иногда толкуемое как «дуновение воздуха»). Которая проявляется, вообще говоря, двумя фундаментальными началами — инь (женское, тёмное, мягкое и др.) и ян (мужское, светлое, твёрдое и др.). И, в частности, предопределяет в теле человека назначение его органов. При этом недостаток ци приводит к недомоганию и болезням.
В старейшем восточном медицинском трактате «Нэй цзин» (около III века до н.э.) придворный врач Ци Бо просвещает китайского императора Хуан-ди: «Сердце в организме выполняет функцию правителя. Из сердца исходит свет духа-шэнь». (Дух-шэнь — это воплощение ци, в какой-то мере соответствующее понятию души.) Таким образом, сердце — центральный регулирующий и духовный орган.
А что же мозг?
По словам мудрого Ци Бо, головной мозг, наряду, например, с желчным пузырём и маткой, относится к категории органов-цзан — вместилищ или «сокровищниц». Их символом является Земля, они сохраняют в себе инь. В то же время для нормального функционирования они нуждаются во взаимодействии с органами-фу (ян, Небо). К которым причисляется, например, тонкий кишечник.6
Это описание очень даже подходит для объяснения согласованной работы желчного пузыря и тонкой кишки.
«Мутное дыхание ци» из органа-дзан (желчь из желчного пузыря) попадает в орган-фу, где трансформируется и передаётся дальше (желчь, оказываясь в двенадцатиперстной кишке, разрушает жиры и активно стимулирует сокращения кишечника).
Но при чём тут мозг? Какую роль он выполняет в обмене ци?
Вероятно, не слишком значительную. Иначе придворный врач китайского императора рассказал бы об этом подробнее.
В последующие несколько веков представления о душе и мозге не изменились. Духовное и телесное по-прежнему разграничивалось. Концепция души живо, хотя и довольно бестолково, обсуждалась философами. А мозгом никто, кроме особо любопытных врачей, не интересовался.
Одним из таких был греческий медик Гален, сделавший во II веке н.э. блестящую карьеру в Риме. Он много читал и комментировал труды Платона, Аристотеля и, само собой, Гиппократов Корпус.19
К тому же, проделал значительную практическую работу по изучению человеческого тела (анатомические исследования с определенными оговорками допускались). Описал головной и спинной мозг, восемь пар черепно-мозговых нервов, а также доказал, что тело человека содержит множество нервов, участвующих в ощущениях и движениях.
Как почти все образованные современники, Гален придерживался идеалистического мировоззрения.
Соединив давние теории и собственные наблюдения, врач постулировал существование трёх субстанций в теле человека: «жизненная пневма» (самая важная, в сердце), «душевная пневма» (головной мозг) и «естественная пневма» (печень). Их преобразования, по мнению Галена, приводили к рождению соответствующих «сил» (лат. vis), взаимодействие которых, в свою очередь, определяло все происходящие в организме процессы.7
Суммируя результаты исследования и осмысления природы человека античными учёными, выделим ключевые тезисы:
— Всё сущее делится на материальное и идеальное. Поэтому и сам человек — существо двойственное (тело и душа, рациональное и чувственное, инь и ян).
— Душа есть средоточие индивидуальности и сложности человека. Включая все его идеи, глубокие мыслительные конструкции, разнообразные комплексы эмоций и чувств.
— Мозг — орган тела и, по отношению к душе, вторичен. В лучшем случае он содержит лишь часть души и/или под её контролем выполняет вспомогательные телесные функции.
Итак, специфической особенностью человека признавалась душа. Именно в ней рождались мысли и чувства — вся сложность человеческой личности. В свою очередь, духовному началу противопоставлялось материальное, телесное.
Это, в общем и целом, соответствовало наблюдениям на протяжении тысячелетий человеческой истории: для наших предков было очевидно, что мысли и чувства могут сохраняться после смерти человека (например, в воспоминаниях других людей, а также в виде текстов, произведений искусства и т.д.), а тело рано или поздно умирает.
Не будем поддаваться ироническому чувству, возникающему при чтении старинных трактатов. Знание растёт медленно, и нужно терпение, чтобы насладиться его плодами.
Вряд ли, живя во времена Аристотеля или Ци Бо, мы могли бы предложить лучшее объяснение разума. Огульная критика существования души так же отвратительна, как желание во всяком поступке человека видеть проявление загадочной и необъяснимой духовности. Человеческая природа неизмеримо сложнее этой вульгарной трактовки. В то же время она — необходимый и неизбежный этап самопознания.
Древние воротилы мысли отказали собственному мозгу в способности мыслить. Зато они сумели сконструировать чрезвычайно сложное, ёмкое и многогранное, понятие.
Душа — философско-медицинский мейнстрим на заре нашей цивилизации.
Отец психологии
Если есть душа, то должно быть и учение о ней.
Трудно считать таковым чрезвычайно путанные и громоздкие рассуждения античных мыслителей. Их требовалось как-то упорядочить. И более того: включить в обновленную концепцию накапливающиеся факты о мозге. Добросовестно собранные исследователями вроде Галена.
Этимология термина «психология» состоит в выделении двух корнеобразующих слов: «psyche» и «logos». Поэтому традиционное толкование: психология есть наука о психике/внутреннем мире человека.
Однако буквальный перевод иной: психология — учение о душе.
Был ли у психологии основоположник?
Широкой публике, разумеется, более всего известен «дедушка Фрейд». Воспитанные в советской культуре вспомнят, прежде всего, об академике Павлове и его типологии темпераментов. Те, кто в теме, назовут психофизиолога Вильгельма Вундта. Он писал невероятно объёмные научные труды и в 1879 году открыл первую в мире лабораторию экспериментальной психологии.
На мой взгляд, отцом психологии следует считать Блаженного Августина. Именно этот философ и теолог обеспечил терминологией и смыслами все последующие поколения психологов.
Блаженный Августин сделал для науки о мозге две важные вещи.
Во-первых, ввёл в обращение язык, на котором по сей день говорят психологи, психиатры, неврологи и прочие специалисты, изучающие мозг. На этом же языке о нём нередко высказываются обыватели.
Суждение (лат. intellectus), разум (лат. mens), осмысление (лат. ratio), чувство (лат. sensus), чувственные образы (лат. species sensibiles), память (лат. memoria), личность (лат. persona) и всевозможные их производные — понятия, хоть и существовавшие до Августина, но наполненные им определённым смысловым содержанием.
Во-вторых, этот Отец Церкви в значительной степени сформулировал первую внятную гипотезу о мозге — его двухмерную модель. Для людей идеалистического мировоззрения она до сих пор служит непревзойденным образцом теоретического осмысления всех фактов и наблюдений, касающихся нашего разума.
Мозг удобно описывать как систему. Поэтому сейчас и впредь мы будем придерживаться единого плана изложения соответствующей модели: последовательно выделим и кратко рассмотрим теоретический базис, элементы системы, принципы их взаимодействия, общее назначение и отдельные функции.
Модель, предложенная Блаженным Августином, была результатом его длительной мировоззренческой эволюции.
Известно, что в юности он симпатизировал манихеям (главная идея — вечная борьба двух противоположных и равномогущественных начал: Добра и Зла, Света и Тьмы и т.д.). Затем увлёкся философией неоплатонизма (акцент на единой, принципиально непознаваемой, сверх-сущности, проявляющейся в различной форме: упорядоченный Мировой Ум, наделенная волей Мировая Душа и пр.). И, наконец, пришёл к монотеистической религии — христианству.
Во всех этих концепциях существование индивидуальной души под сомнение не ставилось.
Элементов души или разума, как таковых, Августин не выделял. Он следовал античной традиции и, соединяя её с библейской версией сотворения мира, сообщал о четырёх первоэлементах-стихиях: огонь, воздух, вода и земля.
Об их взаимодействии теолог отзывался глухо: «…вопрос о превращении элементов до сих пор открыт и не выяснен даже теми людьми, которые посвящали свой досуг весьма тщательному исследованию этого предмета».
Несмотря на это, Августин соотносил каждый вид телесных ощущений с определённым первоэлементом. Зрение он ассоциировал с огнём, слух — с воздухом, обоняние и вкус — с водой, а осязание — с землей. При этом делал важную оговорку: «…несмотря на остроумные соображения, приписывающие ощущения различным телесным элементам, сами чувства возбуждаются через более тонкое тело душой, которой и принадлежит сила ощущения, хотя сама душа и бестелесна». 3
Зато Августин сформулировал подробную феноменологическую структуру.
Где, во-первых, разум — часть души, присущей всем живым созданиям (растения и животные наделены низшими ступенями души — соответственно «растительной» и «ощущающей»).
Во-вторых, разумная душа имеется только у человека. У неё пять ступеней-уровней, которые условно можно обозначить так: познание и творчество, кротость и милосердие, безмятежное стремление к Богу, достижение Истины, созерцание и наслаждение Божественной Мудростью (это последняя, высшая ступень).4
В-третьих, важным феноменом теолог считал «личность» — смешение души и тела, специфическое для человека. В этом рассуждении мыслитель строил аналогию с Христом, его двойственной богочеловеческой природой.20
Среди функций телесного разума Августин подробно останавливался на памяти и описал, в соответствие с предполагаемыми механизмами, пять её форм.
«Сенсорная память» (формирование и сохранение образов непосредственно от каждого из пяти органов чувств), «память о самом себе» (образ себя в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем), «интеллектуальная память» (врожденные идеи, правила, логика и пр., а также способность соединять образы прошлого в единую мыслительную конструкцию), «память сложных чувств» (хранение воспоминаний о любви, грусти, радости, страдании и др.), «память о забытом» (здесь, возможно, имелось в виду не только ощущение «помню, что забыл, но не помню, что именно», но и ложная память — т.н. псевдореминисценции).22
В отношении интеллекта теолог высказывался менее ясно. Но определял его как способность делать умозаключения и обобщения. Что в целом совпадает с общепринятым сейчас толкованием.
Следует особо отметить, что главным инструментом самопознания и, через него, познания Бога для Августина был не разум, а бестелесная душа.
Причём душа, наделенная любовью.
Это открытие Отец Церкви сделал в своём монументальном, во многом подводящем итоги философских и религиозных исканий всей жизни, труде «О граде Божьем».
Выше мы обратили внимание на то, что исследователь различал телесные ощущения и сложные чувства. Последние, хоть и опосредуются умом, производятся бессмертной душой. Самое мощное из высших чувств — любовь. Которая истинна даже тогда, когда любишь ложное. «Ибо у нас [в отличие от животных — Р.Б.] есть иное чувство… посредством которого мы различаем справедливое и несправедливое: справедливое — когда оно имеет известный созерцаемый умом вид, несправедливое — когда не имеет его. Для деятельности этого чувства не нужны ни острота глазного зрачка, ни отверстие уха, ни продушины ноздрей, ни проба ртом и никакое другое телесное прикосновение. Благодаря ему я убежден, что я существую и что знаю об этом; благодаря ему я люблю это и уверен, что люблю». 2
Итак, суть учения Августина сводится к следующим тезисам:
— Душа и телесный разум — принципиально разные сущности.
— Душа использует разум (его разнообразные инструменты-функции, включая память и интеллект) для познания Истины, т. е. Бога.
— Душа также наделена способностью проявлять сложные чувства, главное из которых — любовь.
Тут мы сделаем паузу и особо подчеркнём значение и глубину концепции теолога.
Имеется ряд важных обстоятельств, которые, на наш взгляд, раз за разом упускают, как критики религиозного мировоззрения, так и сторонники «разумного замысла».
Учение Августина сосредоточено на самых сложных феноменах мозга, объединенных им в понятие «душа».
Анатомия головного мозга, различение нервов и сухожилий, детальное устройство органов чувств теолога не интересовали. Эти мелочи относятся к телу и могут, вообще говоря, изменяться для нужд души и по воле всемогущего Творца.
Поэтому, сколько бы медицинских фактов ни откапывали и ни описывали врачи (Августин, конечно, был знаком с трудами Галена), ядро учения — концепция души — остаётся в неприкосновенности. 8 или 80 пар черепно-мозговых нервов у человека, 5 чувств у него или 25 — не важно. Важно, что они служат потребностям личности — гармоничной ассоциации любящей души и её разумной части, включающей память и интеллект.
В наши дни над отвлеченными спорами фанатов науки и креационистов Августин бы посмеялся.
Какая разница — как и почему возник человеческий глаз? Бог, если нужно, легко сделает часовщика зрячим. Не в этой частности дело. Задача в том, чтобы дать глубокое объяснение сложности человеческого поведения.
Учение о душе, прежде всего, рассказывает о человеке, а не о Боге. Оно, хоть и касается эсхатологических вопросов, центрируется на обывателе, его практических нуждах. Гипотеза Августина — убедительный пример системного антропологического подхода.
Августин в нюансах оказался дотошнее, чем Аристотель, и мыслил шире, чем Платон.
Догадка о существовании души возникла на заре человеческой цивилизации. Её автора мы, вероятно, никогда не узнаем. Но никто из последующих мыслителей, за исключением Блаженного Августина, не сумел создать столь тщательно проработанную теорию мозга.
Благодаря новому, как сказали бы раньше, диалектическому, уровню осмысления самого процесса мышления и его продуктов он смог не только точнее описать сформулированными другими философами дихотомии, но и органично их соединить.
В его изложении мозг — не как орган тела, а как орган познания — поднимается со ступени телесного придатка на высоту излучаемого душой «умственного света». Эмоции отчётливо разъединены и одновременно сочетаются в разнообразные духовно-телесные альянсы. Которые, в свою очередь, являются частью неповторимой человеческой индивидуальности.
Быть может, впервые человек, анализируя и оценивая работу собственного мозга, сделал допущение об общей природе т.н. «идеального» и т.н. «материального» и, не вступая в противоречие ни с одним имеющимся фактом, написал грандиозную картину человеческого ума.
Отметим, что свои взгляды Блаженному Августину приходилось защищать в острой полемике с популярными тогда манихеями и неоплатониками.
Разумеется, экспериментов по обнаружению души не проводилось, но представление о двуединой природе человека не было редкостью (в Китае, например, можно было наблюдать похожую модель: инь и ян, Земля и Небо и пр.).
И тот факт, что на многие столетия для Европы точка зрения Августина сделалась доминирующей, указывает на слабость конкурирующих гипотез. Которые, хотя исходили из той же предпосылки, не были столь детальными и не отвечали в нужной степени чаяниям миллионов людей.
Более того: августиново учение оказалось как нельзя лучше вписанным в контекст других теорий — ответов на вопросы о мироздании, о происхождении жизни, о природе бытия.
Сопутствующие объяснения теолог не выдумывал, а взял уже разработанными. То были соответственно: геоцентрическая система Птолемея, описанный в Библии Акт Творения и учение о первоэлементах-стихиях, почерпнутое в трудах античных философов. Не везде эти концепции принимались, а если и принимались, то с оговорками, дополнениями и т. д.
Тем не менее, именно мировоззрение Августина связало их в единое целое — комплекс хорошо продуманных объяснений, каждое из которых поддерживало другое и добавляло ему правдоподобности.
Коротко говоря, учение о душе в изложении Августина — первая квазинаучная гипотеза об устройстве и работе мозга. Она приблизила научное осмысление человеческого разума, сделала его неизбежным.
Такая глубина объяснительной силы — редкость в наше суетное время.
Рационалисты и идеалисты в рассуждениях о разуме предпочитают закидывать друг друга фактами. Но без всеохватывающей теории даже правдивые факты — зыбкая почва. На ней, как на мокром панцире черепахи, удержаться трудно.
В концепции Августина ясно различимы два измерения человеческой природы. Поэтому мы идентифицируем её как двухмерную модель мозга (см. табл. 2).
Справедливости ради скажем, что существует иная точка зрения. О том, что богослов никак не продвинул науку вперёд и «затормозил развитие природоведения». 13
Во-первых, если б это было так — т.е. всё, что сказал Августин о разуме, есть нелепость и враньё — в наше время подобные взгляды, во всяком случае, для своего личного пользования люди бы не выбирали.
Сегодня многие учёные — физики, математики, молекулярные биологи, нейропсихологи и пр. — являются приверженцами идеалистического мировоззрения. Это ничуть не мешает им быть успешными в своей профессиональной области.
Объяснение тут очень простое: они не считают научные теории о мозге более убедительными, нежели то, что предложил преимущественно Августин и отчасти другие Отцы Церкви.
А ведь эти люди — специалисты, чья работа во многом сводится к тому, чтобы строго различать полезное и бесполезное, имеющее смысл и бессмыслицу.
Во-вторых, о концептуальной сущности этой модели и других «природоведческих» взглядов Августина современные интеллектуалы судят тоже весьма благосклонно.
Физики неоднократно указывали на теолога, как на первого мыслителя в истории человечества, заявившего о том, что время не является абсолютным и вечным. Ни много ни мало это краеугольная предпосылка общей теории относительности. На это обращал внимание и подчёркивал, например, Стивен Хокинг.26
Нейроучёные откровенно восхищаются интуицией Августина в отношении описания различных видов памяти, которые удивительным образом согласуются с нынешними взглядами психологии и нейробиологии.22
А философы с репутацией, исключающей какую-либо симпатию к ортодоксальному религиозному мировоззрению, отмечают поразительную сложность и актуальность концепта личности, сформулированного этим теологом.24
Было бы глупо изображать Отца Церкви рационально мыслящим учёным. Тем не менее, невозможно отрицать поразительную живучесть представления о существовании души.
А если объяснение не просто живёт очень долго, но на протяжении тысячи лет является научным мейнстримом, значит, к нему стоит присмотреться.
Разум и чувство
В 1811 году увидел свет художественный роман «Разум и чувство» (англ. «Sense and Sensibility») за авторством Джейн Остин.
Впоследствии произведение многократно переиздавалось, экранизировалось и даже пародировалось. Что, впрочем, лишь добавило и до сих пор добавляет ему популярности.
Приведенный вариант названия в переводе на русский язык выбран неслучайно. Именно этот перевод А. Ю. Фроловой, по мнению лингвистов и литературоведов, наиболее соответствует замыслу автора. Антитеза отражает ключевой конфликт, предопределяющий поступки героев: сочетание и борьбу двух противоположных начал в человеке — рационального и иррационального.
Терминологическая игра с понятием sense любопытна. Если принять его смысл, как «зрелое чувство, рассудительность», в сравнении/оппозиции с sensibility (ранимость, незрелая эмоциональность),5 то получается, что Джейн Остин интерпретирует разум, прежде всего, как мозг чувствующий.
Значит, идеал поведения человека — баланс между разумом и чувством. Такой логический синтез представляет собой высшую точку развития тезиса о двухмерном мозге.
Разумеется, автор «Разума и чувства» не сама это выдумала. Коннотации sensus Блаженного Августина и sense Джейн Остин имеют очевидную, окрепшую за почти полтора тысячелетия, связь.
Интерпретация писательницы — творческая переработка христианского толкования природы человека. Прежде всего — двухмерной модели, описанной теологом. Где «душа», как высшая мыслящая и переживающая комплексные эмоции структура, со временем превратилась в «разум» (sense), а «тело», как обитель трудно контролируемых инстинктов и реакций, стало «чувством» (sensibility).
Примеров художественной трансформации обсуждаемой дихотомии было предостаточно. Заслуга Джейн Остин в том, что она передала это толкование лаконично, искусно обернув его в популярный жанр мелодраматического романа.
В XIX веке противопоставление умственного и чувственного наблюдалось не только в художественной литературе.
Оно стало предметом жарких научных споров. Что неудивительно — ведь к концу столетия окончательно сформировалась новое объяснение мозга.
Об этом — в следующей главе, а здесь отметим, что учёные развернули дискуссию в контексте пресловутой «психофизиологической проблемы».
Психофизиологическая проблема — это теоретический вопрос психологии, который можно сформулировать, в том числе, следующим образом: «Как устроена природа человека: телесные/физиологические процессы регулируют и определяют душевные/психические феномены, или, наоборот, психика детерминирует различные соматические изменения и проявляется через них?».
Более кратко: «Что первично: тело или душа?».
И совсем коротко: «Курица или яйцо?».
Иллюстрацией бушевавшей дискуссии служат теории о механизмах возникновения человеческих эмоций.
В 1884—1885 гг. психолог Уильям Джеймс и физиолог Карл Ланге независимо друг от друга предположили, что телесные процессы предшествуют появлению эмоций, не исключая сложные чувства.
Джеймс (именно его, между прочим, некоторые исследователи называют отцом психологии) писал, что «мы печалимся потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся; сердимся потому, что наносим удар». 27
Т.е. физиологические процессы детерминируют ощущения и эмоции. Сначала курица, потом яйцо.
Со временем нейроучёные стали склоняться к противоположному ответу.
Сегодня, к примеру, уже неплохо изучены мозговые структуры, которые принято называть «лимбическая система». Эти скопления нейронов в мозге считают ответственными за возникновение эмоций, которые проявляются соответствующими образами в психике и запускают цепь физиологических изменений (колебания кровяного давления, изменение диаметра зрачка, сокращение мышц и пр.).15
Есть теории, напрямую выводящие положительные и отрицательные эмоции из идеальных феноменов (например, теория когнитивного диссонанса психолога Леона Фестингера, где чувства ставятся в зависимость от субъективной оценки информации, воспринимаемой человеком).23
Т.е. всё-таки сначала яйцо и только потом курица.
Должно быть ясно, как отвечал на этот вопрос отец психологии, Блаженный Августин. К тому же ответу, насколько можно судить, склонялась Джейн Остин. И миллиарды верующих людей сегодня.
Разум и чувство суть единое — душа. Скорее яйцо, чем курица.
Ответ Карла Ланге и Уильяма Джеймса менее удачен.
Отдавая предпочтение телесному началу и, как следствие, мозгу с его физиологией, исследователи проигнорировали сложность человеческих переживаний, впечатлений и эмоциональных образов.
Да, можно заставить курицу нести яйца определённого размера. Но, вообще говоря, в природе яйца бывают по-разному разные. Вряд ли можно добиться (да и зачем?), чтобы курица снесла страусиное яйцо. Тем более: яйцо золотое.
А феноменологическая реальность такова, что метафорические золотые яйца нашим мозгом производятся нередко.
Современные когнитивные специалисты, озабоченные психофизиологической проблемой (таких, впрочем, всё меньше) не дают однозначного ответа.
Одни, подобно Галену-исследователю, механически собирают факты (столько-то за «курицу», столько-то за «яйцо»). Другие, как Гален-философ, повторяют затверженные, подкрепленные авторитетной традицией, формулы.
Читателя, ожидающего окончательный ответ — так, в конце-то концов, курица или яйцо? разум или чувство? — ждёт разочарование.
Правильного ответа не существует.
Потому что нет в человеке противопоставления духовного и телесного. Нет и всё тут (говорю с сожалением, ибо в противном случае работа психиатров и психотерапевтов была бы куда проще).
Взглянем, как работает двухмерная модель мозга не на бумаге — в учёных трактатах и увлекательных художественных романах — а, в повседневной, одинаково наполненной рутиной и непредсказуемыми поворотами, жизни.
Легко показать, что, например, для лечения большинства психических расстройств представление о разделении в человеке душевного/психического и физического/физиологического никуда не годится.
Как психиатр, я признаю, что религиозные практики помогли и помогают многим людям в трудных жизненных ситуациях. Сам наблюдал такое не раз.
Проблема в том, что гипотеза о существовании души не купирует алкогольный психоз и бесполезна при шизофрении. А ещё есть: истерические неврозы и психопатии, врожденные умственные дефекты, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и пр. Не хочу умалять труд, скажем, священников, выслушивающих ежедневно исповеди своих прихожан, но очевидно, что, исходя из двойственной природы человека, нельзя помочь всем и во всех случаях.
Рассматривая случаи поведения толпы, где, казалось бы, чувства и не самые позитивные определяют поведение, также сложно судить, основываясь на критерии «рациональное/иррациональное».
Как вели себя люди, скажем, на гибнущем «Титанике»? Разумно или эмоционально?
Многочисленные свидетельства демонстрируют, что по-разному. Кто-то спасал собственную шкуру, кто-то проявлял благородство и альтруизм. Некоторые впадали в ступор, другие спокойно читали книги.21,25
Не менее убедительные факты, демонстрирующие несводимость человека к дихотомии «разум и чувство», предоставляет изучение индивидуальных поведенческих стратегий.
Какое суждение следует вынести о поведении жены алкоголика, изнемогающей в борьбе за своё семейное счастье десятки лет и, при этом, не допускающей даже мысли о разводе? Её мотивы эмоциональны: она созависимая? Или это холодный, тщательно закамуфлированный, расчёт: часть зарплаты пьющий муж-таки отдаёт, что-то делает по дому, «детям нужен отец» и т.д.?
Или, допустим, ситуация домашнего насилия: чем руководствуется агрессор? Муж бьёт жену потому, что он озлоблен, сам воспитывался в условиях систематического насилия? Или так он исполняет негласный социальный ритуал — своеобразный «Домострой» XXI века — имея в виду, с его точки зрения, определенный резон: женщине время от времени «нужно напоминать, кто в доме хозяин»?
Внесём ясность: мы не критикуем обсуждаемую концепцию по сути.
На мой взгляд, не существует доказательств бытия души. Впрочем, нет доводов в пользу её отсутствия. (Можно ли критиковать то, что принципиально не вычисляется?)
Наш тезис состоит в том, что дихотомия «душа/тело», «разум/чувство», равно, как и её научная версия — «психическое/физическое» — не является полным объяснением всех имеющихся о мозге фактов.
Имеет место нехитрая ловушка.
Существование мыслящей, способной к любви, души-психики и биологически детерминированного разума-мозга есть аксиома, и спорить предлагается только о том, что из этих столпов нашей природы важнее. Выходить за флажки нельзя.
Ведь если не «душа» и не «психика», то что? И если вам не нравится определение «телесный» или «физиологический», то какой? В чём ваше объяснение?
Поскольку большинство теряется, альтернативное толкование с ходу предложить не может — дихотомический капкан захлопывается.
Не думаю, что раскрываю какой-то секрет.
О пагубности дихотомического мышления предупреждал ещё Иммануил Кант (ложные оппозиции он называл антиномиями).12 А после него — повторяли и разъясняли сущность ловушки многие другие философы и учёные.
Так в чём же дело? Почему люди до сих пор верят в антагонизм рационального и иррационального?
Миф о разуме и чувстве живуч не потому, что правдив или основан на какой-то научной информации. И не потому, что эту дихотомию рекламируют всюду и все, кому не лень (хотя это так).
Миф этот живуч потому, что на самом деле он не про мозг. Он про гендер. Это заблуждение — подпорка идентичности, прочно связанной с полом. «Разум и чувство» — стереотипное представление о мужчине и женщине.
«Женская логика»
Более всего от рассечения мозга на разум и чувство выиграли женщины. Что неудивительно, ведь они гораздо практичнее и, чего уж там, мудрее мужчин.
«Любишь? А за что? Как докажешь?» — краткий чек-лист, взятый на вооружение женщинами, в отличие от мужчин, внимательно читавших романы Джейн Остин.
Такому бронебойному снаряду практически невозможно противостоять. А попробуешь отделаться общими словами и двусмысленными фразами — прилетит тяжкое обвинение в «бесчувственности».
Мужчины не остались в долгу.
Манипуляцию торжественно разоблачили и обозвали «женской логикой». Где «взрывчатое вещество» — аргументы типа «это рвётся из меня!», «не могу молчать!», «я так чувствую, значит, правда!», а «детонатор» — «проявлять эмоции это нормально».
Контратакующая рационализация мужчинам не помогла. Поскольку никак не касалась сердцевины модели, на которой основана «женская логика».
Если б дело касалось только взаимоотношений полов, это ещё ничего.
Но в наше время «женскую логику» успешно освоили не только женщины.
Политики измельчали и обленились: всё чаще раздаются звонкие лозунги вместо логически стройной аргументации. Менеджеры сплачивают коллективы магическими байками-заклинаниями про «дух компании» и «корпоративную солидарность». Мошенники уже давно не заморачиваются выдумыванием хитрых схем: они «мотивируют» клиентов на концертах, подобно рок-звёздам. Жулики-психологи плодят книжки про «мужскую и женскую психологию» и разнообразные курсы «управления эмоциями». Шоумены, модные публицисты, «лидеры мнений» на видеохостингах втирают про «мужчин с Марса» и «женщин с Венеры».
Здесь эмоции — первый шаг. Важно расшатать, размягчить критическую защиту: польстить, очаровать, припугнуть; пробудить жадность, зависть.
Далее следует «фактологическая часть». Которая представляет собой вырванные из контекста сведения. Фактов не должно быть много: два-три, но подать их надо лихо, задорно. Они необходимы, чтобы окончательно обрушить критику, намертво закрепить эмоциональная связь. Или, говоря по-научному, раппорт.
Наконец, когда всякое сопротивление подавлено, наступает момент подачи «основного блюда». То может быть любой товар, теория заговора или даже научная теория.
Вы уже доверяете источнику (он/она не может врать, потому что сам (а) в это верит!). Вы раскрылись чувству: справедливому и всегда правдивому. И покупаете то, что, по возвращении домой (или в реальность) вертите со всех сторон, оглядываете и с удивлением себя спрашиваете: «Ну, и зачем мне это?».
Более того: приёмы «женской логики», берущей начало в двухмерной модели мозга, эксплуатируются для пропаганды самой модели. Точнее: её сильно искорёженной, скомканной версии.
Примером подобных спекуляций в нынешнем научпопе являются работы Юваля Харари.
В первой, ставшей широко известной, книге «Краткая история человечества» Ю. Харари сообщает о «когнитивной революции», которая по его хронологии (автор работает профессором истории) почему-то произошла в промежуток где-то между 70 и 30 тысячами лет назад.
Особенность «революционного» мозга H.sapiens, писатель, как будто, передаёт верно: человека от животных отличает способность воображать. Но дальше сваливает всё — экономику, науку, религию, политику — в одну кучу. Не сообразуя виды деятельности ни с их целями, ни с механизмами эволюции.
Нелепой суете земледельческой цивилизации противопоставляется идеал жизни в доаграрную эпоху. По сути, реконструируется древний миф о «Золотом веке», когда не нужно было вкалывать на огороде, а боги были добры. Но человек-де разрушил идиллию, стал убивать животных и всячески портить природу.
За это «сапиенсов» ждёт расплата: всякие новые технологии, о которых Харари рассуждает с недюжинной эрудицией на уровне самого осведомленного журналиста, преобразуют нас навсегда. В дурном, конечно, смысле.17
Составляя рецензию на эту работу, один научный критик проницательно назвал автора «восходящей рок-звездой лекционных выступлений» и отметил, что тот обладает «смутным мировоззрением, обремененным политкорректностью». 28
Дальше — больше.
Новым технологиям и, прежде всего, «всемогущим компьютерным алгоритмам» Юваль Харари всыпал по полной в следующей книге — «Ноmo Deus. Краткая история будущего».
Мыслитель решил, что «наука давно доказала» тождество «биохимических алгоритмов» и алгоритмов компьютерных программ. «Сейчас считается истиной в последней инстанции, что организмы — это алгоритмы, а алгоритмы могут быть представлены математическими формулами». А так как компьютеры развиваются быстрее, чем человеческий мозг, нам всем будет худо.
Заметно, что Харари тщательно нагнетает технофобию и наслаждается этим: «нейронные сети будут заменены умным „софтом“, не скованным органической химией и способным свободно ориентироваться как в виртуальном, так и в невиртуальном пространстве»; «алгоритм сможет предсказывать ваши мнения и желания лучше, чем ваши муж или жена!».
Очень забавно читать про то, как Харари, претендующий на роль исследователя-пионера, объясняет мозг. Автор «Ноmo Deus» выделяет в психике «переживающее „я“» и «комментирующее „я“». Первое — нечто рациональное (отражает объективные потребности), второе — иррациональное (выдумывает всякую субъективную ерунду). При этом Харари ссылается на нейробиолога Роджера Сперри, чьи работы 1970х гг. по изучению межполушарной асимметрии головного мозга трактует, как интернет-психолог, раскручивающий свой ютуб-канал: «правое полушарие отвечает за творчество, левое — за логику».
Книга насыщена дихотомиями и их оппозициями: наука против религии, механическое против живого, разум против чувства, интеллект против сознания. Последнее понятие — ключевое. Правда, по давней привычке пустословов и компиляторов, Юваль Харари забывает объяснить, что же это такое, таинственное «сознание». По скупым характеристикам можно лишь гадать: это нечто, позволяющее нам «заботиться, грезить, сомневаться».
Ближе к финалу произведения ожидаемо является теория заговора. Оказывается, злонамеренные «техногуманисты» мечтают совершить «вторую когнитивную революцию». В результате которой мы превратимся «в людей-винтиков» или станем «сильно увеличенными муравьями». А править нами будет, конечно, он — искусственный интеллект.16
В последней книге профессор окончательно разбушевался.
Стиль бомбардировки эмоциональными аргументами и сообщения скороговоркой устаревших (а порою — откровенно недостоверных) фактов вышел на новый уровень.
Тут вам: тоска и боль за будущее человечества; сенсационный «факт» о том, что учёные «взломали» мозг и расшифровали «хвалёную человеческую интуицию»; тревога из-за того, что компьютеры способны быстро объединяться в сети, вперемежку с «фактами» о том, как они уже диагнозы ставят и назначают лечение.
«Основное блюдо» всё то же: сопротивляйтесь! сражайтесь, а не то будет поздно! я вас предупредил!
В этом опусе учёный-гуманитарий, наконец-то, делится своим представлением о мозге: «…интеллект и сознание — совершенно разные вещи. Интеллект — это способность решать задачи. Сознание — способность чувствовать боль, радость, любовь или гнев. Мы часто путаем эти понятия, потому что у людей и других млекопитающих интеллект неразрывно связан с сознанием. Млекопитающие решают большинство задач посредством чувств. Но у компьютеров совсем другой подход». 18
Ах, ты ж, боже мой. А ведь автор про нехорошую и манипуляторскую «постправду» сочиняет…
«Говорящие головы» бесконечно далеки от проблем реальной жизни. Свои книги они пишут не для того, чтобы объяснять или — упаси бог! — просвещать. А для банального хайпа. Рецепт незамысловат: побольше апломба, полярных эмоций и утверждений с широко раскрытыми глазами. Знание тут — лишний ингредиент.
Так готовятся все современные спекуляции на двухмерном мозга. Человек, верящий в то, что его мозг сводится к «разумному» и «чувственному», уже подготовлен к суррогату. Лишь бы было покороче и позабористее (см. табл. 3).
Отдаю полный отчёт в том, что фанатов двойственной природы человека переубедить не удастся.
Большинство мелодраматических сюжетов ещё долго будут строиться вокруг гадания на ромашке «любит/не любит». А нынешним воротилам мысли и спекулянтам, глубокомысленно противопоставляющим «интеллект» и «сознание», не грозит ничего, кроме безбедного существования.
Однако преданность идее двухмерного разума, которую демонстрирует ставшая глобальной, интеллектуальная элита, изумляет.
Да, мы живём на стыке эпох. Да, все озабочены утратой старых смыслов.
Как-то вдруг всё перестало работать. Или работает натужно, со сбоями: демократия, религия, просвещение.
И даже, как грезится многим, сама мать-природа восстала против нас, грешников-потребителей, грозя неминуемой экологической и/или биологической катастрофой.
Но являются ли трудности переосмысления достаточным поводом, чтобы погрузиться в уныние, махнуть рукой? И, кряхтя под свалившимся на каждого из нас информационным грузом, рукоплескать обманчивой простоте «женской логики»? Которая не только пользует дихотомию «разумное/чувственное», но и сама есть её побочное, нелюбимое, дитя?
Как бы это ни величали — психофизиологическая проблема, основной вопрос философии или как-то ещё — ничего путного не выходит. Старая модель выдохлась, и никакие косметические ухищрения её уже не спасут.
От того, что сегодня мысли называются «когнициями», а чувства и эмоции камуфлируются в полумистическое понятие «квалиа», суть дела не меняется.
Как и две с половиной тысячи лет назад, мы ставим себя в рамки ложной оппозиции. Гадаем: тело или душа, разум или чувство, курица или яйцо.
Не надо считать дураками наших предков. Сочинивших очень сложную и красивую сказку, вдохновлявшую на творчество и любовь.
Но не надо считать дураками и самих себя. Не способными выдумать ничего лучше.
Чувствующий мозг — наше изощренное психологическое наследие. Не найдётся ли чего посовременнее?
Таблицы к главе 2


Глава 3. Мозг-машина
Наши ноги —
поездов молниеносные проходы.
Наши руки —
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники — пароходы.
Наши крылья — аэроплан.
поэт Маяковский безбожно врёт
Я не нуждался в этой гипотезе
математик Лаплас, отвечая на вопрос о Боге, троллит общественность
Третье измерение
В конце XVII века сэр Исаак Ньютон своим фундаментальным трудом «Математические начала натуральной философии» заложил основы т.н. «естественнонаучной» картины мира.
Считается, что физик заочно полемизировал с другим выдающимся учёным, математиком Рене Декартом. Который в 1644 году опубликовал не менее крупную по своему онтологическому значению работу «Первоначала философии», где представил деистический взгляд на природу.
Декарт полагал, что духовное и телесное сосуществуют, и первое, безусловно, влиятельнее второго. Ньютон механически, с помощью дифференциальных уравнений, описал окружающий мир. Он невольно поместил Бога-Творца «за скобки», лишив его функции текущего ремонта.
При этом Ньютон критиковал гипотезу Декарта, согласно которой планеты движутся благодаря полумифическим эфирным вихрям, и с подозрением относился ко всяким попыткам отвлечённого философствования.16
Тем не менее, учёные сходились в главном. Вселенная есть большая и слаженно работающая машина. Если так, то и сам человек, и его разум подобны машине.
Ньютон на этом следствии останавливаться не стал: возможно, оно казалось ему чересчур мелким в сравнении с задачей моделирования мироздания. А, вот, Декарт прямо применил образ машины для объяснения мозга.
«Первоначала философии» начинаются с того, что автор повторяет формулу Блаженного Августина: человек = тело + душа. Про последнюю уточнялось: «…есть то, что мы именуем нашей душой или способностью мыслить».
Далее, развивая тезис, Декарт замечает, что «различие между душой и телом, или между вещью мыслящей и телесной» есть «наилучший путь к познанию природы ума и его отличия от тела».
И, наконец: «Под словом „мышление“ я понимаю всё то, что совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить». 10
По Декарту, способность мыслить является неоспоримым доказательством существования Бога: его бесконечной мудрости и всемогущества.
Ведь, как рассуждал учёный, если сомневаешься, то совершенный затем через преодоление сомнения выбор, по определению, свободный. Не исключая выбор метафизический (воплощенный, например, в вопросе: есть ли Бог?).
А «свободный» (или, если угодно, «произвольный») значит «истинный». Не в том смысле, что соответствует истинному («объективному», как сказали бы сейчас) положению вещей, а в значении «искренний».
Выбор может быть ошибочным, но его ценность для познания от этого не становится меньше. Наоборот, способность заблуждаться делает человека человеком — лучшим и любимейшим творением Бога.
Из Августинова «Если ошибаюсь, я существую» (лат. Si fallor, sum) часто выводится Декартов принцип радикального сомнения, выраженный в его знаменитом «Я мыслю, значит, я существую» (фр. Je pense, donc je suis).
Создаётся обманчивое впечатление, что математик пошёл по стопам теолога. В предыдущей главе мы выяснили, что Блаженный Августин создал проработанную концепцию о двухмерном мозге. Рене Декарт, как будто, описывал ту же конструкцию. Некоторые нейроучёные до сих пор поддерживают точку зрения о том, что Декарт проповедовал дуализм: искусственно разделял рациональное и чувственное.31
Не берусь судить, насколько Декарт был дуалистом в отношении прочих явлений природы, но наш разум в прокрустово ложе антиномий он уж точно не помещал.
Подмеченное Августином свойство мозга сомневаться — в том числе, в бытии Бога — Декарт использовал, как представляется, для других целей.
У Отца Церкви это иллюстрация безграничной силы и доброты Творца по отношению к человеку. У математика — отражение особой, чисто человеческой, структуры: иного, не телесного и не душевного, измерения.
В трактовке Декарта третье измерение нашего мозга — способность взглянуть на себя (на свои мысли, чувства, идеи, поступки и т.д.) со стороны. То, что сейчас иногда зовётся самосознанием/саморефлексией.
Вне всяких сомнений, это новое слово в описании мозга.
Ещё раньше, до публикации «Первоначал философии», Декарт, отвечая на разнообразную критику, приводил следующий мысленный эксперимент.
Вообразите, что возле камина сидит человек. Он ощущает жар огня и думает о нём.
Огонь есть проявление материи. А мысль о наблюдаемом огне или ощущение жара (по Декарту, между ними нет существенной разницы) — проявление работы мыслящей души (или одухотворенного разума).
Однако есть кое-что ещё. А именно: обдумывание видения огня и обдумывание ощущения жара. В частности, имеет место быть размышление о природе связи между ощущением от действия огня и тем, что разум обозначает как «жар». Это мысль о мысли.12
Возникает резонный вопрос: чем «мысль о мысли» отличается от просто «мысли»? Не является ли это избыточным теоретическим усложнением?
Нет, не является.
В «Первоначалах философии» Декарт поясняет, что, по крайней мере, для человеческого мозга первичное восприятие следует отличать от вторичной обработки информации. «Нам присущи два модуса мышления — восприятие разума (perceptio intellectus) и действие воли (operatio voluntatis). Разумеется, все имеющиеся у нас модусы мышления сводятся к двум основным: один из них — восприятие, или действие разума, другой — воление, или действие воли».
Таким образом, ощущение жара и даже присвоение ему названия есть обычная перцепция, которой обладают животные. А, вот, соединение материального раздражителя и его восприятия, т.е. отношение этих величин, в форме абстрактного размышления — исключительно человеческое.
Причём оно основано на свободе выбора. Мы вольны размышлять о природе огня-жара так и этак, а можем вообще этого не делать, просто наслаждаясь теплом пылающих поленьев.
Именно воление, по Декарту, является причиной заблуждений. Оно же — источник верных догадок и конструктивных идей.
В связи с этим математик приводит замечательное рассуждение: «Что же до воли, то область её действия чрезвычайно обширна (что, несомненно, согласуется с её природой), и высшим совершенством человека является свобода волений; таким образом, он в некотором особом смысле хозяин своих поступков и сообразно с ними заслуживает хвалы. Ведь автоматы нельзя хвалить за то, что они аккуратно выполняют все движения, к которым предназначены, ибо они выполняют их так в силу необходимости; однако хвалят создавшего их мастера за то, что он сработал их с такой точностью, ибо он создал их не в силу необходимости, а по произволу». 10
Сегодня такое рассуждение не кажется оригинальным.
Говорят: «человеку свойственно ошибаться», а современный поэт выразил эту мысль ещё лучше: «Сомненье — лучший антисептик / От загнивания ума». 8
Однако сказать подобное в XVII веке — сенсация.
До Декарта двуединая природа человека была продуктом тщательной логической проработки (начало которой положил тот же Августин). Бессмертная душа и смертное тело — не просто красивые метафоры, но ещё системы целеполагания. Душа стремится к Богу, тело предрасположено к греху. На этом противопоставлении строится важнейшая христианская концепция «первородного греха». Причину которого, например, Фома Аквинский связывал с присущей человеку волей.25
Следовательно, доминировало убеждение, что всё истинное, непротиворечивое, ясное и простое — от души, а всё ошибочное, сомнительное, смутное, избыточно сложное — от тела.
И, вот, вся схема рушится. Или, во всяком случае, ставится под сомнение.
Возможно возражение со стороны тех, кто продолжает считать Декарта дуалистом: мол, ничего нового в разделении мозга на три части не было.
Вспомнить хотя бы Галена с его концепцией о трёх одухотворённых пневмах. Или, вот, Бонавентура, горячий поклонник трудов Блаженного Августина: он полагал человека триединым существом, наделённым ощущающей частью, душой и умом.15
Однако эти возражения несостоятельны.
У Галена разного рода пневмы, хоть и помещены в различные органы, ничем принципиально друг от друга не отличаются. А что касается Бонавентуры, в его интерпретации речь и вправду идёт о частях. Переплетенных и, при некоторых оговорках, взаимозаменяемых.
Декарт же описывал «действие воли» как самодостаточную категорию мозга. Третье, саморефлексирующее, измерение.
Которое не сводится ни к автоматическим движениям тела (когда мы, например, касаясь огня, одёргиваем руку), ни к мыслям-чувствам (идентифицируем «огонь-жар», глядя на него и/или ощущая его непосредственно).
Новизна Декартова рассуждения в том, что созерцание собственного мышления есть нечто независимое в человеческом мозге. У него свои законы, свои правила. И, между прочим, собственный локус. Орган, где телесно-механическое и душевно-мыслящее сходятся — шишковидная железа (эпифиз).11,37
Это то, что отличает нас от прочих живых существ. Ибо жить без самосознания можно, но, сознавая себя, нельзя не быть человеком. Поэтому: «Я мыслю, значит, я [как человек — Р.Б.] существую».
Как Декарт сумел додуматься до третьего измерения мозга? Почему он, а не, скажем, Андреас Везалий — блестящий врач, живший на сто лет раньше и своими анатомическими исследованиями во многом исправивший ошибки Галена?
Догадка Рене Декарта — не чудо и не случайность. Это закономерный результат его профессиональной деятельности. До конца жизни он оставался превосходным математиком.
Мнимые числа
Прежде чем совершить прорыв в теории мозга, Декарт совершил революцию в математике. Суть переворота заключалась в переосмыслении понятия «число».
По мнению сэра Майкла Атья, в истории математики такие учёные, как Ньютон и Лейбниц, знаменуют переход от алгебры к математическому анализу.29
Не углубляясь в предпосылки данного перехода, заметим, что существенной его чертой было появление дифференциального исчисления и термина «функция».
Думаю, сейчас все знают, что функция есть отношение двух величин (необязательно выраженных числом — существуют, например, векторные функции). Однако, чтобы прийти к современному пониманию числа и функции, человечество преодолело немалый путь.
Со школы каждому знакома двухмерная система координат (ось абсцисс — x и ось ординат — y с их числовой разметкой), в которой исследуются различные функции (всякие эллипсы, параболы, гиперболы и пр.).
Мало кто задумывался (я в школьные годы — точно нет), что графическое изображение функции есть удивительный пример человеческой фантазии, соединившей, казалось бы, мало сопоставимые вещи: геометрию и алгебру.
В данном случае фантазия принадлежала Рене Декарту. Его трактат «Геометрия», увидевший свет в 1637 году (за семь лет до «Первоначал философии»), продемонстрировал новый универсальный подход к решению математических задач.
А именно: любые объекты и их соотношения можно выразить через алгебраические уравнения. Декарт строил двухмерную систему координат (теперь говорят «декартовы координаты»), изображал два пересекающихся объекта (например, окружность и параболу), выражал каждый объект через уравнение, объединял получившиеся уравнения в систему и решал её. Полученные корни являлись координатами (по оси абсцисс) точек пересечения объектов.9
Для того чтобы понять, как Декарт от математики шагнул к оригинальной идее об устройстве мозга, предпримем попытку воспроизвести его логику.
В целях упрощения изложения рассмотрим в плоскости декартовых координат объекты: параболу (x2 = y) и несколько, пересекающих её, прямых (y = ¼; y = 1; y = 2; y = 3; y = 4).
Указанные объекты пересекаются в некоторых точках (геометрическая характеристика), имеющих соответствующие координаты и, в частности, определенные числовые значения на оси абсцисс (алгебраическая характеристика).
Среди этих значений есть, как отрицательные, так и положительные, числа: целые (–2; –1; 1; 2), в виде обыкновенной дроби (–½; ½) и т.н. «иррациональные» (–√3; –√2;√2;√3) (см. рис. 7).
Иррациональные числа были известны задолго до Декарта (скажем, число π).
Надо сказать, что большинству математиков они не нравились (при попытке их уточнения — попробуйте, например, извлечь квадратный корень из 2 или из 3 — выползает «некрасивая» десятичная дробь с длинным-предлинным бесконечным хвостом). Некоторые даже не считали их числами.
Рене Декарт покончил с этой своеобразной дискриминацией, расширив теоретическое представление о числе. В «Геометрии» он фактически объявил то, что спустя несколько десятилетий сформулировал Ньютон: число — отношение одной величины к другой.
В результате этого отношения могут получаться целые, дробные, иррациональные и даже отрицательные значения.
Важно не это, а то, что за каждым числом стоит некий смысл (скажем, π является постоянным значением отношения длины окружности к её диаметру; или, например, в медицине бессмысленно подсчитывать количество больных на данной территории, но полезно выяснить отношение больные/здоровые, больные/всё население и т.д.).
Только за одно это толкование понятия «число» мы, благодарные потомки, наставили бы Рене Декарту памятников. Но математику этого было мало: он стал рассуждать дальше.
Декарт задумался: насколько вообще допустимо совмещать геометрию и алгебру — это и вправду важно на практике или просто отвлечённая игра ума? получающиеся в координатной сетке точки пересечения объектов, как и сами объекты, реальны? или они, поскольку заданы абстрактными комбинациями цифр, суть умозрительные конструкции, часть из которых хоть и имеют какой-то смысл, но большинство, как почти все иррациональные числа, бесконечно непостижимы?
Поясним суть проблемы на нашем примере.
Возьмём параболу, заданную функцией x2 = y, и пересекающуюся с ней прямую, заданную функцией y = 1. По методу Декарта, составим систему уравнений и найдём корни: x1 = –1, x2 = 1. Получим координаты двух точек пересечения для данных объектов: (–1; 1), (1; 1).
Аналогичные операции проделаем для каждой другой пары параболы и прямой — получим соответствующие значения координат.
Заметим, что значения всех функций в точках пересечения объектов будут всегда положительными. Т.е. y — строго положительное число.
Обобщая, можно сказать, что совокупность уравнений, отражающих функции, есть правила, по которым строятся реальные (в том смысле, что допустимо создать их в физической реальности: в самом простом случае — нарисовать на бумаге) геометрические объекты. А совокупность числовых координат локусов пересечения объектов есть точки — тоже реальные (их можно вычислить по правилу) корни уравнений (см. рис. 8).
Пока вроде бы ничего сложного: всё яснее ясного.
Но Декарт решил усложнить себе жизнь и перевернуть параболу «вверх ногами» — рассмотреть зеркальное отображение объекта, заданного функцией x2 = y.
Или, иначе говоря, математик исследовал, в контексте приведённого выше обобщения, функцию x2 = ƒ, где ƒ — это строго отрицательное число.
Вероятно, идея пришла к нему из оптики, которой учёный активно занимался. А, может, его осенило, когда он смотрелся в зеркало: ведь «мнимое изображение», несмотря на всю условность своего существования, чем-то да является.
Как бы там ни было, перевёрнутая «вверх ногами» парабола — очень странный объект. Реальна ли описывающая его функция?
По методу Декарта, составим системы уравнений для параболы, заданной функцией x2 = ƒ, и двух пересекающихся с ней прямых, например, y = –1 и y = –3. Попытаемся найти корни.
Не выходит. Потому что получаются уравнения: x2 = –1; x2 = –3. И, значит, x = √–1; x = √–3.
Квадратный корень из отрицательного числа — это что?
Это мнимые числа.
Такие числа ранее математики уже вычисляли, решая некоторые сложные уравнения. Им не придавали особого значения, поскольку наряду с подобными, казавшимися абсурдными, результатами получались и «нормальные» корни.
Декарт тоже их игнорировал, однако, во-первых, взявшись написать о числах всё, что знал, включил их в общую классификацию (термин «мнимые числа» принадлежит ему), а, во-вторых, в его программе создания общего метода решения математических задач их надо было как-то объяснить.
Ведь, несмотря на алгебраическое затруднение, геометрические объекты x2 = ƒ, y = –1, y = –3 существуют. В системе координат их можно построить и легко найти координаты точек пересечения. По две точки для каждой пары соответственно: (–1; –1) и (1; –1); (–√3; –3) и (√3; –3).
Значит, геометрические объекты реальны.
Но, поскольку функция-правило, согласно которой строится один из объектов, скажем так, не совсем реальна (функция типа x2 = — y), координаты общих для этих объектов чисел-точек содержат «мнимые числа».
Т.е. данные точки нереальны (см. рис. 9).
Полагаю, будучи подлинным учёным, Декарт таким результатом нисколько не смутился. Что получилось, то получилось.
Свойство «мнимости» не помешало распространить логику соотношения величин и на эти, несподручные, числа.
Число, согласно Декарту, есть точка пересечения/соприкосновения двух объектов, причём математическое выражение общего локуса может быть, как минимум, двояким: реальным и мнимым.
Более того: используя мнимые числа-точки можно построить мнимый объект. Такой, как перевёрнутая парабола. Или, если брать примеры из современной жизни, «цифровой двойник».
Этот объект обладает многими свойствами реальности, но привычными мыслями-чувствами его не ухватишь и не ощутишь. Как отражение в зеркале.
Много позже, на рубеже XVIII — XIX вв. математики (Каспар Вессель, Жан-Робер Арган, Джон Уоррен и др. — основываясь, в свою очередь, на работах Леонарда Эйлера и Карла Фридриха Гаусса) додумались изображать соединение реального и мнимого. Оформилось понятие «комплексное число».
Сегодня все числа в математике — комплексные. Те числа, к которым привык и пользуется обычный человек, тоже комплексные. Только без их, мнимой, части (она принимается равной нулю).
Практическую ценность комплексных чисел в науке и технологиях трудно переоценить. Все технические достижения нашей цивилизации за последнюю сотню, если не больше, лет — в электротехнике, гидродинамике, аэродинамике, строительстве прочных конструкций, навигации, космонавтике и многих других прикладных областях — связаны с расчётами, в которых используются эти числа.1 Физик Юджин Вингер отмечал, что «применение комплексных чисел становится почти неизбежным при формулировке законов квантовой механики». 39
Итак, хотя понятие комплексного числа сформулировано после Декарта — догадка о принадлежности мнимых чисел миру реального, несомненно, есть его персональная интеллектуальная инновация.
Теперь мы должны яснее понимать ход мыслей математика в отношении устройства и работы мозга.
Догадка о роли мнимых чисел привела в «Первоначалах философии» к тезису о третьем измерении — описанию локуса или точки, где сходятся реальное и мнимое нашего разума.
Возможно, когда учёный писал о «действии воли», он представлял некую, сочетающую геометрию и алгебру, мозговую структуру.
Мозг, как орган тела, ассоциировался с геометрическим объектом (по Декарту, всякая материальная «протяженная субстанция» способна принимать любую форму). А мысль-идея, как движение души, было им соотнесено с алгебраическим выражением (это суть проявление нематериальной «мыслящей субстанции»).
Одновременно с этим, алгебраическое выражение в форме уравнения есть правила-функции, по которым действует и воспринимает окружающий мир наш разум. Корни уравнений — абстрактные, вдохновлённые душой, идеи, которыми мозг свободно оперирует. Если идея верна — это сродни вычислению вещественного корня. Если идея ошибочна — получается мнимое число.
Непосредственный выбор, какой именно идеей руководствоваться, зависит от воли человека. Полное описание этого процесса должно включать все логически возможные объекты (реальные и мнимые) и все решения (реальные и мнимые). Только так можно понять сущность работы одухотворенного мозга.
Но это ещё не всё.
Декарт не только описал мозг математически — он предпринял попытку соединить это объяснение с известными к тому времени фактами в области медицины, механики и даже этики (эти науки учёный уподоблял ветвям древа, чей ствол — физика, а корень — метафизика, т.е. то, что сейчас зовётся философией).
В понимании Рене Декарта механические и биологические объекты имеют общую структуру, сотворенную по единому плану.
Разница лишь в том, что «действия механизмов зависят исключительно от устройства различных трубок, пружин или иного рода инструментов, которые, будучи соразмерны руке мастера, всегда настолько велики, что их форму и движения легко увидеть», а «трубки или пружины» в живых системах, включая человека, «обычно бывают столь малы, что ускользают от наших чувств». 10
Поэтому учёный отводил себе роль часовщика, рассматривающего не им изготовленные часы и по движению видимых частей делающего вывод о существовании и взаимодействии других, невидимых, частей механизма (как это произошло в случае с перевёрнутой параболой).
Он писал, что по видимым «трубкам» (нервам) в теле человека текут невидимые «животные духи»32 (сигналы), которые сообщают о внешних ощущениях и движениях в мозг — обиталище души и место её соприкосновения с телом. Это соприкосновение настолько тесное, что порождает, присущую исключительно человеку, сущность — свободную волю.
Таким образом, физические, математические, биомедицинские, инженерные и философские знания Декарта соединились, чтобы сконструировать принципиально новое объяснение мозга: это трёхмерная, одухотворенная и производящая идеи-мысли, машина.
Резюмируем гипотезу Декарта:
— Наряду с телом и душой, в человеке действует третье, волевое, измерение. Это особая структура, отражающая соотношение телесного и духовного; находится в головном мозге (предположительно, в эпифизе).
— Волевая структура производит идеи и мысли: как истинные, так и ложные.
— В целом мозг работает как очень сложный механизм, который, тем не менее, может реагировать не только автоматически, но и произвольно.
Два коротких комментария.
Во-первых, на мой взгляд, очевидно, что гипотеза Декарта наследует модели Блаженного Августина.
В объяснении мозга, предложенном математиком, существование души сомнению не подвергается. Вместе с тем, акцент смещён: центральный компонент — не душа, а соотношение душа/тело.
Примечательно, что во французском переводе «Первоначал философии», сделанном через пару лет после публикации латинской версии произведения Декарта (в те времена научные сочинения писали, прежде всего, на латыни), слово mens («ум») передано как âme («душа»). О каких-либо авторских возражениях против столь вольного перевода нам неизвестно.
Во-вторых, отметим одну любопытную деталь: по мнению математика, мозг не оперирует невычислимыми расчётами.
По Декарту, мозг занят исключительно вычислимыми операциями. Это понятно, учитывая проповедуемый учёным алгебраический подход. То, что не поддается конечным вычислениям (иррациональные числа, например) — тоже часть реальности, но не доступная или малодоступная человеческому разуму.
Во всяком случае, математик призывал «имя „бесконечный“ сохранить лишь за Богом».
Век специалистов
В течение двух последующих столетий гипотеза Декарта была популяризирована.
Прежде всего — мыслителями, склонными к «естественнонаучному» толкованию мира. Как античные «воротилы мысли» истово верили в существование души и Сверх-Разума, так же яростно мыслители Просвещения стали верить в «естественные законы» и Сверх-Знание.
Философ Гоббс, полемизируя с Декартом, в итоге почти полностью повторил его точку зрения — и даже радикализировал её.7
Энциклопедист Дидро сравнивал людей с «инструментами, одарёнными способностью ощущать и памятью». 13
Врач Ламетри инкогнито опубликовал трактат со скандальным названием «Человек-машина» и не менее возмутительным, контридеалистическим, содержанием.17
«Естественнонаучным» пиаром занимались не только философы. На излёте эпохи Просвещения широко разошлись дерзкие слова о Боге, приписываемые Лапласу и помещенные в эпиграф к этой главе.
Не так уж важно — говорил так один из самых выдающихся математиков своего времени или нет. На этот счёт есть разные мнения.30
Важно, что высказывание отражало всеобщее настроение: для объяснения мироздания и самого человека появились новые, более правдоподобные, теории.
Стало ясно, что в механической Вселенной люди-машины могут функционировать и без души. Некогда реальное теперь считалось мнимым, а мнимое сделалось частью по-новому упорядоченной реальности.
Таковы были долгосрочные следствия гениальной догадки Рене Декарта. Таковой оказалась объяснительная мощь его гипотезы, которую нельзя было предвидеть.
Однако, сколько не повторяй «мозг-машина», полноценная теория не возникнет сама собой.
Структурированное знание на основе идеи Декарта создали не философы, не модные литераторы и не прочие просвещённые деятели.
Это знание создали учёные нового типа: профессионалы по узкому кругу вопросов.
Наступил век специалистов.
Согласно ныне господствующему представлению, XIX столетие — время рождения современной науки (или: «научного метода», «научного мышления», «научного эксперимента» и пр.).
«Говорящие головы» взахлёб рассказывают, как бойкая и дерзкая Наука, опираясь, в первую очередь, на технологии, начала бурно развиваться. И почти сразу принялась дробиться на отдельные области и направления.
Благодаря мощным оптическим приборам человек смог заглянуть не только высоко вверх, но и глубоко вниз: буквально, себе под ноги. В почве, водоёмах, воздухе и на самых обычных предметах учёные обнаружили мельчайшие организмы. Глядя в окуляр микроскопа, они повсюду видели клетки. Но и всматриваясь в самих себя — изучая собственные ткани — они видели ту же ячеистую структуру.
Был сделан вывод о единой клеточной природе живых систем. Оказалось, что головной мозг тоже состоит из клеток — нейронов, чьи длинные отростки, разбегающиеся по всему телу, есть те самые «нервы», что были описаны ещё в древности. Так, в исследовании разума доминирующее положение, вместо анатомии, заняла нейробиология — первооснова нынешней нейронауки.
В свою очередь, нейробиология возникла не изолированно, а в содружестве с другими естественными дисциплинами. Электромагнитные явления получили правильное научное толкование, и на смену полумистическому месмеризму пришла электродинамика.
Её применили, в том числе, к объяснению физиологических процессов в мозге. В результате появились нейрофизиология, психофизиология. А психология, избавившись от всякой феноменологической чепухи, встала на твёрдую экспериментальную почву.
Учение о разуме перестало быть философией и стало наукой.
Таково краткое, ставшее почти каноническим, изложение, с которым вы встретитесь в тысячах и тысячах книг, посвященных истории изучения мозга.
В действительности всё было не так. И даже, пожалуй, совсем не так.
Да, специалисты по мозгу появились. Их действительно стало много, им действительно начали доверять.
Но не потому, что изобрели микроскоп и амперметр. А потому, что люди переставали верить в душу и начали верить в мозг-машину.
Творцы первого научного представления о мозге, названные впоследствии «нейроучёными», работали в чрезвычайно комфортных условиях. Три из четырёх важнейших вопросов человечества были уже решены.
Вернее: появились обновленные версии ответов на эти вопросы. Завёрнутые, как и полагалось в XIX веке, в оболочку модного материализма, они являлись, по существу, стройными научными теориями. И составляли почти завершенную «естественнонаучную» картину мира.
В самых общих чертах и в массовом представлении теории Ньютона, Дарвина, Максвелла говорили о том, что:
— Вселенная есть разумно устроенная и вычислимая машина;
— живой организм есть приспосабливающийся к условиям среды и, по крайней мере, частично зависящий от неё механизм;
— природа бытия есть непрерывное взаимодействие электромагнитных потоков, которые можно измерять, регулировать, направлять.
До формулировки «естественнонаучного» объяснения мозга оставалось совсем чуть-чуть.
Уже были и художественные воплощения. Например, в романе ужасов Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818 год). Где под мозгом понималась некая смесь химических соединений, которая при правильной «сборке» давала эффект оживления.
А, скажем, 1843 годом датируется первая попытка формализации данного объяснения в рамках узкой специальности. Вильгельм Гризингер, судя по всему, первым из психиатров и невропатологов высказался о мозговой деятельности, подчинённой механическим принципам. Специалист писал о «психических рефлекторных актах». 33
Так что, во второй половине самого «естественнонаучного» столетия теория о механическом мозге не просто созрела: она перезрела.
И тогда, когда её наконец-то сформулировали — главным образом, в виде рефлекторной теории и, отчасти, динамической психологии — учение о душе перешло в разряд «гипотез, в которых не нуждались».
В 1863 году физиолог Иван Сеченов опубликовал научную работу «Рефлексы головного мозга».
В которой, по сути, объявил наш мозг электрической машиной. «Самая причудливая в мире», как писал Сеченов, сложно устроенная, но машина.21
Сеченов описал рефлекторную дугу: универсальный, по его мнению, физиологический механизм функционирования тела человека, не исключая головной мозг.
Существует два типа рефлексов: невольные (машинообразные) и произвольные. У первого типа — два звена: то, что воспринимает сигнал из среды и проводит его (нейрон-рецептор), и то, что, получая сигнал, реагирует на него движением мышцы или, скажем, выделением какой-либо физиологической жидкости (нейрон-эффектор). У второго, более сложного, типа рефлексов есть ещё и промежуточное звено, которое располагается в коре головного мозга (центральный нейрон или, как сейчас его называют, «интернейрон»). Он срабатывает как переключатель, перекидывая электрический сигнал на соседние клетки. Те либо возбуждаются, либо тормозятся.
Таким образом, в коре головного мозга формируются очаги возбуждения-торможения, сочетание которых определяет в каждый момент времени состояние тела и поведение человека в целом.
В этой концепции объяснение когнитивных функций строилось по аналогии с электромагнитными феноменами. Которые не могут существовать без подводки внешней энергии.
Память есть возбужденные очаги (центры), которые можно сопоставить с «запоминанием» и «хранением» информации, а также — угасающие очаги-центры в мозге, что согласуется с описанием процесса «забывания».
«Мысль» — не что иное, как застойное возбуждение в центральном звене рефлекса. Который по каким-то причинам остаётся незавершённым.
В связи с этим Сеченов особо подчёркивал, что причина поступка — не мысль сама по себе, а действие среды: «Первоначальная причина всякого поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении, потому что без него никакая мысль невозможна». 21
Дальнейшее развитие рефлекторная теория получила в трудах выдающегося физиолога Ивана Павлова.
В известных опытах по исследованию физиологии пищеварительной системы животных Павлов доказал существование двух типов рефлексов, которые постулировал Сеченов. Только назвал их будущий академик по-своему.
Машинообразные рефлексы — «безусловные» (т.е. практически независящие от условий среды; например, различные инстинктивные реакции защиты), а произвольные — «условные» (нужен внешний сигнал среды: постоянные условия, которые выработают полезную приспособительную реакцию; например, выделение слюны у собаки на многократно предъявляемый экспериментатором звонок, совмещенный с выдачей пищи).
За эту новаторскую работу в 1904 году Павлов получил Нобелевскую премию.
Однако только экспериментами по исследованию работы желудочно-кишечного тракта учёный не ограничился. Из просто физиолога он переквалифицировался в нейрофизиолога.
Теоретическое описание работы мозга, сделанное Сеченовым, Павлов счёл недостаточным. И попытался уничтожить даже намёк на идеалистический характер мозговых процессов (Сеченов позволял себе писать о «воле» и «самосознании», которые трудно согласовать с представлением о мозге-машине).
Павлов ввёл понятие «второй сигнальной системы», свойственной только человеку. И тем самым придал рефлекторной теории вид полного описания мозга без использования терминологии предыдущей модели и отсылок к ней.
Учёный рассуждал примерно так.
У развитых животных (допустим, собак) есть безусловные (выделение слюны на кусок мяса во рту) и условные рефлексы (то же выделение слюны, но натренированное, скажем, на звонок).
Однако у человека, наряду с этими двумя, есть ещё и третий тип рефлексов. Слюна может появиться на «сигнал о сигнале» — например, картинку с изображением куска мяса. Мозг собаки на такой сигнал не реагирует, а человеческий — ещё как.
Следовательно, нейроны коры нашего мозга формируют ещё более сложные условные рефлексы — т.н. «условные рефлексы второй сигнальной системы». Для этого им надо объединяться в устойчивые очаги возбуждения, что является физиологической основой представлений и/или психических образов.
Эти образы, в свою очередь, могут соединяться, дополнять друг друга, накладываться и т. д. У животных образов-картинок в мозге нет, потому что нет ресурса для таких супер-рефлексов. А у человека есть: огромное число интернейронов в коре больших полушарий головного мозга.19
Академик Павлов экстраполировал описанные им «условные рефлексы второй сигнальной системы» на всё человеческое поведение. В 1916—17 гг. он выступил с рядом публичных докладов, в которых рассказал о «рефлексе цели» и «рефлексе свободы».
Под первым он понимал ни много ни мало универсальный инстинкт к жизни. В подтверждение приводил пример человеческой тяги к собиранию чего-либо (академик сам был заядлым коллекционером): «Ведь коллекционировать можно всё, пустяки, как и всё важное и великое в жизни: удобства жизни (практики), хорошие законы (государственные люди), познания (образованные люди), научные открытия (учёные люди), добродетели (высокие люди) и т.д.».
«Рефлекс свободы», по Павлову, есть врожденное стремление к преодолению разнообразных препятствий. Сообщая об одном случае с собакой, на примере которой он рассуждал о «рефлексе свободы», учёный не удержался от более широкого обобщения. Он заявил, что людям, например, в их политической деятельности, тоже свойственно испытывать «рефлекс свободы». Который, впрочем, всегда борется с «рефлексом рабства». 20
Довольно быстро у специалистов типа Сеченова и Павлова — физиологов и нейрофизиологов — появились конкуренты. Тоже специалисты и тоже приверженцы «естественнонаучной» картины мира.
Их стали называть «психологами» и «психиатрами». Они предложили свою версию мозга-машины.
Самый известный из них — Зигмунд Фрейд, ставший основоположником целого направления в психологии и психиатрии.
Это т. н. «динамический» (от др.-греч. dynamis, означающего «сила»; имелись в виду мощные психические силы, обитающие в глубинах бессознательного) подход, популяризированный благодаря прикладному методу лечения психических расстройств, психоанализу.
Психиатр Фрейд так же, как нейрофизиолог Павлов, полагал мозг трёхмерной машиной.
Всё своеобразие которой сформировано средой (базовый конфликт, т.н. «Эдипов комплекс», по Фрейду, присущ каждому человеку и возникает у ребёнка при контакте с родителями или замещающими их фигурами). Ведь и конфликт в тёмных недрах бессознательного, и вполне различимый «сигнал о сигнале» невозможны без внешнего, социального, взаимодействия.
Примечательно, что Фрейд в своих поздних работах развивал идею противопоставления «влечения к жизни» и «влечения к смерти», 27 а также широко интерпретировал описанный им конфликт между бессознательным и реальностью в контексте общественных отношений и культуры.26
Напрашивается явная аналогия с рефлексами свободы, рабства и цели в изложении Павлова.
По мере распространения и утверждения теории о машиноподобном мозге, когнитивные специалисты чувствовали себя всё увереннее. Они составляли собственную профессиональную касту и всё меньше нуждались в помощи фундаментальной науки: среди них всё реже встречались те, кто разбирался в физике и математике.
Великий учёный Герман фон Гельмгольц, которого в равной степени можно назвать физиком, математиком, физиологом и врачом, был научным наставником Вильгельма Вундта (того самого, кто организовал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии — см. главу 2) и Ивана Сеченова.
Кроме фон Гельмгольца, Сеченов стажировался у известного физика и физиолога Эмиля Генриха Дюбуа-Реймона, брат которого Пауль Давид был не последним европейским математиком.
Иван Павлов, восхищавшийся трудами Сеченова, был учеником Вундта. Зигмунд Фрейд учился у невропатолога и психиатра Жана-Мартена Шарко, возглавлявшего знаменитую клинику для душевнобольных Сальпетриер, и чрезвычайно часто ссылался на объёмные труды того же Вундта.
Однако, если Сеченов и Вундт — физиологи, то Павлов и Фрейд — уже более узкие специалисты.
Так же, как другие ученики Вундта: психиатр Эмиль Крепелин (сформулировал классификацию психических расстройств, принципы которой используются по сей день) и психолог Гуго Мюнстерберг (изобретатель «психотехник», основоположник прикладной профессиональной психологии в США).
Как и ученики Шарко — психиатр Эйген Блейлер (автор терминов «шизофрения» и «аутизм») и невролог Жозеф Бабинский (описал многие патологические симптомы и синдромы).
«Естественнонаучные» толкователи мозга неустанно бомбардировали обывателей новейшей терминологией и, в случае поломки объекта, составляли инструкцию для его починки.
Одни специалисты говорили о «высшей нервной деятельности», другие — о загадочных, обитающих в бессознательном, «силах». «Соматики» спорили с «психиками», материалисты — с идеалистами, физиологи — с психологами, социалисты — с дегенеративистами, неврологи — с психиатрами, теоретики — с экспериментаторами.
Но, как бы ни кружилась от обилия предложений голова, спрос всё равно оставался высоким. Нюансы вторичны. Существенно, что центральный тезис «мозг — это машина» овладел умами (см. табл. 4).
Итак, в начале XX века наибольшее признание получили две версии «естественнонаучного» описания мозга: рефлекторная теория и психоаналитическое толкование. В обеих трактовках отчётливо просматриваются три измерения:
— Биологическое (в интерпретации Сеченова-Павлова — безусловные рефлексы, у Фрейда — бессознательные инстинкты).
— Социальное (в обеих версиях — среда).
— Психическое (у нейрофизиологов — «высшая нервная деятельность», у психоаналитиков — «Эго» или просто «Я»).
Триумф и кризис
Теория о механическом мозге, почти полностью зависящем от среды, стала плодом деятельности специалистов — вознесла их на вершину общественного триумфа, обеспечила им долгий «золотой век».
Но, как известно, за всяким возвышением неминуемо наступает спад.
Между прочим, привычка всюду, где нужно и не нужно, внедрять модную специализацию и машинизацию сделалась предметом критики уже в конце XIX века.
В романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» один из персонажей иронично рассуждает: «Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит». 14
Более мрачный юмор мы находим в рассказе Герберта Уэллса «Бог Динамо» («The Lord of Dynamos», 1894 год), где по сюжету представитель примитивной культуры, незнакомый с электрическими машинами, настолько напуган и одновременно восхищён одной из них, что обожествляет её. Он решает, что «Великое Динамо» требует жертвы и, как ни печально, приносит её — незадачливого техника, взявшегося обучить дикаря.24
Опрометчиво доверять оценку научных теорий художникам. Часто, несмотря на гениальность дарования, они пристрастны и не обладают нужным уровнем знания.
Об успешности теории следует судить по её следствиям. И не только прямым, в своей области, но и косвенным — по плодотворности идей, которые эта теория предоставила другим областям познания.
Вот пример из физики.
До публикации Джеймсом Максвеллом в 1873 году теории электромагнетизма учёные довольно смутно представляли природу бытия.
Кто-то верил в атомы, кто-то — в магнетические флюиды. Но большинство было убеждено в том, что всё пространство Вселенной заполнено неосязаемым эфиром (в этом они, между прочим, следовали заблуждениям Декарта: что само по себе опровергает существование т.н. «универсальных гениев»).
Максвелл объяснил электромагнитные явления, сделав это в строгой математической форме. Он позаимствовал у другого учёного, физика Майкла Фарадея, догадку о существовании электромагнитного поля. А затем предположил, что имеют место колебания упругого эфира — электромагнитные волны.
Прямым следствием теории Фарадея-Максвелла стало то, что генераторы постоянного тока (те самые «динамо-машины», что впечатлили несчастного дикаря из рассказа Уэллса) были заменены на более эффективные устройства — генераторы переменного тока.
Вдохновлённый успехом Максвелл попытался подступиться к объяснению природы бытия, исходя из универсальности электромагнитных феноменов. И потерпел неудачу. Т.к. по-прежнему верил в эфир: его модель микромира казалась чересчур громоздкой и неуклюжей.
Из описания Максвелла не следовало, что носителем электрического заряда является частица.
Однако именно это предположил в 1897 году физик Джозеф Джон Томсон. По его мнению, причиной электромагнитных волн была эта гипотетическая частица, а не колебания эфира. Проведя ряд опытов (за которые в 1906 году был удостоен Нобелевской премии), Томсон доказал свою гипотезу. Частицу назвали «электрон».
Тогда учёным пришло в голову, что, возможно, атомарная природа бытия — объяснение получше, нежели теория эфира. И, следовательно, необходимо вообразить, как атомы устроены.
Сам Томсон предложил модель атома, известную как «пудинг с изюмом» (атом представляет собой положительно заряженную сферу, в которую вкраплены равномерно распределенные электроны).
А в 1911 году его ученик, физик Эрнест Резерфорд, сопоставив эту модель с результатом ряда экспериментов, создал более логичную конфигурацию. Это т. н. «планетарная модель атома» (в центре — положительно заряженное ядро, а вокруг, на большом расстоянии, вращаются, словно планеты вокруг светила, электроны).22
В дальнейшем модель Резерфорда тоже была пересмотрена (см. главу 5), в результате чего родилась целая научная отрасль — атомная физика. Воплотившаяся в таких технологиях, как атомная бомба и атомный реактор.
Итак, хорошая теория — в данном случае, классическая электродинамика — дала успешные прикладные результаты (генератор переменного тока вместо «динамо-машины») и, через ряд теоретических построений, новое объяснение природы бытия (атомарные модели вместо эфирных теорий).
Что, в связи с этим, можно сказать о механической модели мозга?
Первое и самое очевидное следствие представления «мозг-машина» — то, что его можно, в принципе, починить. Значит, нужно изменить отношение к безумию.
Ещё в конце XVIII века психиатр Филипп Пинель осуществил организационную реформу в подшефных ему психиатрических заведениях, включая больницу Сальпетриер (ту самую, которой впоследствии заведовал Шарко). По его указанию, душевнобольных перестали бить, истязать; с них сняли цепи, разрешили прогулки, переместили из узилищ в больничные палаты и т. д.
Дело было не в чувстве жалости или пресловутом «духе Просвещения» (которые наверняка были свойственны Пинелю), а в перемене концепции устройства разума. Безумие перестало считаться проклятием, с которым ничего нельзя поделать. «Одержимые» отныне назывались «пациентами»: людьми с психическими расстройствами (ср. с современным термином mental disorder: буквально — «нарушенный порядок разума»).
И, что бы впоследствии ни пытались выдумывать постмодернистские философы, приписывая психиатрам Нового Времени коварные замыслы по порабощению несчастных изгоев, то был акт милосердия. Однако основан он был на вполне рациональной предпосылке.
Во-вторых, логично видеть причину болезней механического мозга в неисправном функционировании деталей: его центров, узлов, связей. Следовательно, лечить мозг — значит искать сломанные детали, устранять и/или заменять их.
Такой взгляд блестяще подтвердился, по крайней мере, в отношении некоторых заболеваний.
Скажем, в течение многих столетий эпилепсия считалась «священной болезнью»: рационального лечения не существовало. Потому что — как помочь «одержимому», если в него вселилось нечто сверхъестественное? Звали магов, жрецов, священников. Но, что с ними, что без них, эпилептические приступы воспроизводились по какой-то своей, таинственной, логике.
Заметные изменения в подходах к лечению эпилепсии произошли в середине XIX века — всё в той же клинике Сальпетриер.
Ученик и коллега Шарко, доктор Бабинский, обратил внимание патрона на то, что приступы приступам рознь. У эпилептиков причина припадков заключается в наличие патологического очага в мозге, сообщающего электрические импульсы мышцам и заставляющим их судорожно сжиматься-сокращаться. А у истериков «виноват» тоже мозг, но иначе: очаг, скорее, психической, чем органической, природы.
Поэтому первых нужно отделить от вторых и лечить каждую категорию по-своему. В частности, эпилептикам помогают лекарства, снимающие лишнее возбуждение в патологическом очаге.
Следующий шаг в борьбе с эпилепсией был связан с изобретением и внедрением электроэнцефалографии (ЭЭГ) в 1910—20х гг.
ЭЭГ недвусмысленно подтверждала гипотезу о патологическом очаге в головном мозге как причине эпилептических приступов: на записи этот очаг был ясно виден. Теперь поиск противосудорожной фармакотерапии сопровождался объективным методом оценки её эффективности.
Сегодня существуют десятки антиконвульсантов, блокирующих патологические импульсы в мозге и позволяющих пациентам с эпилепсией жить полноценной жизнью.
В-третьих, механическая модель мозга позволила сформулировать первое научное толкование такому явлению, как «внушение» (специалисты предпочитают говорить «суггестия»). Это объяснило огромное число мозговых феноменов, которые ранее приписывали действию сверхъестественных сил.
Умиротворение «бесноватых» и обретение «расслабленными» вновь способности двигаться; внезапное исчезновение речи, зрения, слуха и столь же таинственное их восстановление после нескольких слов и жестов, произведённых целителем; загадочное поведение целых групп людей, выполняющих странные ритуальные действия, а то и вовсе бесследно исчезнувших в результате, вероятно, совершенного коллективного самоубийства — эти и им подобные факты веками вызвали изумление, страх.
Во второй половине XVIII века по популярности среди образованной европейской публики мало кто мог сравниться с Францем Месмером. Именно он предложил первое квазинаучное объяснение странным мозговым феноменам и стал, по сути, первым в мире профессиональным гипнотерапевтом.
Впрочем, Месмер вовсе не стремился объяснить мозг. Он хотел прояснить природу магнетизма, для которого тогда тоже не существовало никакого рационального толкования.
Франц Месмер предположил, что универсальными элементами бытия являются «мировые флюиды». Они пронизывают всю Вселенную и населяющих её существ, не исключая людей (идея не такая уж странная, если вспомнить, что предложенная Ньютоном гравитации тоже неосязаемая и дальнодействующая сила). Кроме того, они накапливаются в особых металлах — магнитах, и их силу можно использовать для лечения разнообразных душевных недугов (отсюда прозвище для подобных специалистов — «магнетизёры»).
Практикуя в разных уголках Европы и устраивая грандиозные шоу для больных (всё, как в древних книгах: «слепые прозревали, глухие стали слышать» и т.п.), Месмер понял, что дело не в магнитах.
Дело в нём самом, в его способности аккумулировать «флюиды» и передавать их людям. Причём эффект был особенно силён во время сеанса и ослабевал либо со временем, либо с увеличением расстояния между ним и страждущими.36
В 1815 году Месмер умер, не оставив какого-либо детального описания своей концепции. Однако его последователи ещё долго изумляли и восхищали детей века Просвещения.
После объяснения электромагнетизма, предложенного Фарадеем и Максвеллом, о каком-либо научном статусе «флюидной» теории не могло быть и речи.
К магнетизёрам начали относиться с презрением, а над их «братьями по разуму», спиритуалистами, откровенно потешались (Майкл Фарадей специально занимался этим вопросом и в ряде экспериментов показал, что спиритизм — разновидность шарлатанства).
Низвержение месмеризма-спиритизма не означало, что эффекты, которых добивался Месмер, были просто фокусами.
«Магнетизёрство» взялись объяснить новообразовавшиеся специалисты по мозгу человека (Шарко, Бабинский, Фрейд, Бехтерев и др.). Они использовали свою терминологию и применили новейшую теорию — механическую модель мозга.
Ведь если мозг-машина состоит из «сознательного» (или «высшей нервной деятельности») и «бессознательного» (или «подсознательного», управляемого машинообразными рефлексами), то ясно, что действия гипнолога (т.е. внешний средовой сигнал) сводятся к тому, чтобы дать мозгу некие терапевтические инструкции на уровне подсознания. Которые он обязательно выполнит, потому что его надзирающая и контролирующая структура — сознание — временно отключена.
В этом состоит суть медицинского и, само собой, глубоко научного воздействия. Которое в наши дни называется гипнозом и является вполне респектабельным психотерапевтическим методом.
В определённых случаях — например, при истерических неврозах — этот метод и вправду хорош; а иногда — просто-напросто единственное, что может помочь.
Но важно даже не это, а то, что значительное количество фактов о мозге было разъяснено: навсегда устранена всякая сверхъестественная подоплёка.
В-четвёртых, громадной важности следствием представления о мозге, как саморегулируемой и приспособляющейся к внешней среде машине, стало развитие теорий воспитания и терапевтических сообществ.
Вся современная педагогика рождена на рубеже XVIII — XIX вв. (деятельность Иоганна Гербарта, Иоганна Песталоцци, Фридриха Врёбеля и др.).
В разных версиях наставники предлагали воспитывать в человеке «гражданина», «личность», «природный дар» и пр. Но сходились в том, что воспитание надо начинать, как можно скорее, и что детей, не поддающихся перевоспитанию, не бывает.
Апофеозом этих идей стала педагогическая теория Антона Макаренко, которая позволила довести коллективное воздействие на индивидуума до уровня сверхуспешной социальной технологии.
Лечение средой нашло воплощение в исключительно медицинских программах.
Сегодня никого не удивить разнообразными терапевтическими группами и сообществами, где пациенты могут свободно общаться друг с другом, делиться своими проблемами и даже участвовать в управлении медицинской организацией.
Впервые идея терапевтической общины была реализована в психиатрической лечебнице «The Retreat» в Йорке. Это произошло в то же время, когда Пинель освобождал от цепей вверенных ему душевнобольных.
В-пятых, специализация на исследователей, диагностов болезней мозга и тех, кто эти болезни лечит, поначалу, несомненно, была целесообразна и крайне плодотворна. Несмотря на скепсис таких уважаемых писателей, как Достоевский.
Различение душевных и неврологических расстройств, выявление их патогенетических механизмов, разработка фармакологических средств воздействия на передачу биоэлектрических сигналов между нейронами вкупе с бурным развитием биохимии продлили миллионы жизней и избавили от мук десятки миллионов людей.
С многих «тайн» нашего разума была сорвана непроницаемая завеса. Люди с сомнительной репутацией — магнетизёры, спиритуалисты и прочие мистики — уступали своё место у постели больного бодрым практикам с университетским образованием и «естественнонаучным» мировоззрением: психотерапевтам, физиологам, психологам, неврологам, нейрохирургам, психиатрам.
Специалисты лечили правильно, по науке.
Они говорили: не «душа», а «психика»; не «чувства», а «аффекты»; не «видения», а «галлюцинации». Они делали не кровопускание, а, наоборот, внутривенные вливания; не прыгали вокруг больного, тряся бубном и бормоча заклинания — а помещали его в светлую и тёплую палату со звуконепроницаемыми стенами.
И пациенты, свыкаясь с новым взглядом на разум, послушно повторяли: «расшатались нервы», «психика перевозбудилась», «нервы разболтались», «мозги скрипят», «я — не меланхолик, просто у меня — слабый тип нервной системы» и т. д.
Мнилось: ещё чуть-чуть и последние загадки мозга будут разгаданы.
Ещё немного и учёные, подобно профессору Преображенскому из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», покопавшись в мозгах, откроют какой-нибудь супер-центр, управляющий всеми супер-рефлексами, или какую-нибудь особо важную железу (у Булгакова — гипофиз, у Декарта — эпифиз, но какая разница!), и всё станет окончательно ясно. Вопрос — как устроен и как возник разум? — будет закрыт. Раз и навсегда.
Этого не случилось.
Какой бы в сравнении с предыдущей теорией ни была прогрессивной, и сколько бы фактов ни проясняла, механическая модель мозга не являлась полным его объяснением.
Следовавшие из этого объяснения выводы, сыграв определённую положительную роль, очень быстро приобрели спекулятивное толкование. И, в некоторых случаях, обернулись трагедией.
Наивысший триумф модели «мозг-машина» пришёлся на первые десятилетия XX века.
Но уже в 1930—40х гг. эта концепция оказалась в глубочайшем кризисе: расцвели, размножились разнообразные спекуляции.
Психиатр и нейрохирург Эгаш Мониш в 1936 году опубликовал статью о новом методе лечения. Официально он назывался «лейкотомия», но большинству известен как «лоботомия».
Мониш исходил из общепринятого научного представления о мозге как машине: в неисправном механизме есть неправильно работающие центры или провода-связи, которые «закоротило». Значит, их надо механически разрушить, засовывая в мозг тонкий металлический прут, напоминающий стилет или нож для колки льда. В результате такой операции пациенты, страдающие, например, шизофренией или какой-либо психопатией, становились тихими и умиротворёнными.
Научное сообщество тоже исходило из представления о мозге как машине. Поэтому рукоплескало хирургу-новатору и вручило ему в 1949 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Вскоре выяснилось: вместе с умиротворённостью лоботомия влечёт серьёзные осложнения.
Люди становились эмоционально отрешенными, пассивными; часто наблюдались эпилептические припадки, отсутствие контроля над физиологическими отправлениями; резко и необратимо снижался интеллект.
В 1950х гг. изуверскую процедуру запретили, но беда в том, что сотням тысяч официально подвергнутых лоботомии пациентам помочь уже было нельзя.
Не менее болезненным и грубым методом лечения шизофрении является электросудорожная терапия (ЭСТ). Как и лоботомия, получила распространение в 1930х гг., но, в отличие от неё, до сих пор не запрещена.
Исходная идея всё та же: мозг — биоэлектрическая машина. Значит, если она ломается, надо долбануть по ней со всей дури: например, пропустить через мозг разряд электрического тока — хорошенько встряхнуть его, ввергнув в состояние шока.
Правда, что ЭСТ применяется только тогда, когда ничто иное (лекарства) не помогает. Но правда также в том, что таким способом можно лишь купировать острый психотический приступ, но не излечить человека.
Выше мы обсуждали, как модель «мозг-машина» позволила успешно справиться с эпилепсией — при помощи лекарств и ЭЭГ в качестве метода объективного контроля.
Однако в конце XIX века, исходя из той же модели, эпилепсию начали лечить хирургически. Одним из вариантов такого лечения стала каллозотомия — разделение полушарий головного мозга путем рассечения мозолистого тела (срединная структура, состоящая из отростков нейронов двух полушарий).
Данный метод, как и ЭСТ, хоть и ограничен строгими медицинскими показаниями, абсолютно легален. По современным оценкам, у 69% пациентов, перенесших нейрохирургическое вмешательство, эпилепсия сохраняется.18
Со стороны могло показаться, что теория успешно развивается: её обсуждали, уточняли, совершенствовали. Машинообразный мозг получал всё большее признание среди образованных людей, «лидеров мнений».
Скажем, известный писатель-фантаст Герберт Уэллс (заметим, биолог по образованию) колесил по миру и всюду, где мог, пропагандировал рефлекторную теорию.
В США появились бихевиористы, требовавшие изучать только поведение человека и сводившие психику к простой схеме «стимул-реакция». Их доктринёры зачитывались работами Павлова и сурово осуждали конкурентов — всё более погружавшихся в феноменологические глубины психоаналитиков.
А на родине прославленного академика, в СССР, ругали и фрейдистов, и бихевиористов, и заодно дуалистов прошлого, вроде Декарта и Фехнера.
Требуя при этом, кто — полной отмены психологии и замены её исключительно физиологией, кто — введения всеобщей дисциплины на основе учения Павлова (об этом, в частности, писал психиатр Владимир Бехтерев, ратуя за создание особой науки, рефлексологии человека).2
Активное волевое измерение мозга, впервые описанное Декартом, в представлении нейроучёных незаметно регрессировало до «нервно-психической деятельности», где, в зависимости от личных пристрастий теоретика, ведущую роль играли либо биологические, либо социальные факторы.
В концепцию стали привносить философские, политические, экономические и прочие, посторонние, смыслы. Глубинная связь модели с математикой и физикой была утрачена.
Спекуляции об управляемом средой мозге-машине вышли далеко за пределы медицины.
Вторая половина XIX столетия — время генерации уродливых социально-политических концепций по воспитанию целых народов, а первая половина XX века — период их жестокого воплощения, псевдонаучных попыток вывести «нового человека».
Нельзя сказать, что эти идеологемы стали прямым следствием представления «мозг-машина». Но они, безусловно, были с нею связаны.
Самим ходом вещей сложились условия для нечаянной экспериментальной проверки теории о механическом мозге.
Это произошло в период 1914—1945 гг. Когда сначала Европа, а затем весь мир погрузились в череду почти непрерывных войн, революций, восстаний.
Люди приучались думать о себе как винтиках в механизмах. Брали в руки автоматическое оружие; залезали в ползающие, плавающие, летающие машины и убивали других людей. Новые технологии войны позволяли не видеть врага воочию: массовые убийства, машинный способ устранения социальных «неполадок», достигли уровня конвейерной организации. Этому способствовала окрепшая химера «геополитики» — умозрительная схема, толкующая международные отношения как систему интересов государств-машин. Идеологические противники, инакомыслящие, целые народы трансформировались в абстрактные «массы» и «контингенты»: цифры в донесениях, надписи на картах. Они стали математическими функциями от территорий, которые населяли, и от средств производства, которыми пользовались. Их сложением, вычитанием, умножением и делением оперировали как алгебраическими величинами.
Декарт ужаснулся бы результатам такой проверки своей гипотезы (см. табл. 5).
Следствия теории о трёхмерном мозге-машине работали не так хорошо, как ожидалось. Гораздо хуже, нежели в случае классической теории электродинамики.
Новая теория не сопровождалась прорывом в смежных областях познания. Подобно тому, как это произошло в физике, где появилась «планетарная модель атома».
Кроме того, немаловажным критерием хорошего объяснения является его эстетическая привлекательность.
Модель Резерфорда изящнее, чем «пудинг с изюмом». Но мысль о том, что мы ничем не отличаемся от лабораторной мыши, и что из всякого человека можно выдрессировать некий «социальный тип», в сравнении с по-своему красивой логикой исходной теории Сеченова-Павлова и романтично-таинственной концепцией Фрейда, — отвратительна.
Далеко не все специалисты по мозгу человека понимали суть кризиса. А те, кто понимал, попытались спасти модель.
Четвёртое измерение?
В начале XX столетия в физике, биологии и математике происходило то, что принято называть «сотрясанием основ».
Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, окончательно оформленная им в 1907—1916 гг., растворила в себе механику Ньютона. Оказалось, что мир устроен сложнее, чем самая мудрёная машина. К тому же, в последний год, самого «естественнонаучного», XIX столетия физик Макс Планк ввёл понятие «квант» — родилась новая физическая теория.
У биологов были свои хлопоты. Их «альфа и омега» — теория биологической эволюции — неожиданно получила новое дыхание. В 1900 году переоткрыли законы Грегора Менделя. А ещё через девять лет появилось понятие «гены». Что в совокупности с предположением об их спонтанном изменении (мутациях) позволило сместить акцент в толковании теории Дарвина: в естественном отборе выживает не сильнейший, а наиболее удачливый.
Даже в стройную и много чего объясняющую теорию электродинамики пришлось вносить изменения. Точнее: выяснилось, что область её применения не так широка, как считалось. Тот же Эйнштейн в 1905 году объяснил феномен фотоэффекта (появление или усиление электрического тока в металле под воздействием света). Причём сделал это, исходя не из волновой природы света — как в теории Фарадея-Максвелла — а из того, что имеет место поток дискретных кусочков энергии, фотонов. Таким образом, вопрос о природе бытия снова стал решаться иначе.
В области математики нашёлся свой «бунтарь». Им оказался Георг Кантор, предложивший теорию множеств в 1891 году. Фактически он открыл новый универсальный язык математики (и науки в целом) — исследование и описание бесконечных множеств. Видный учёный Давид Гильберт на состоявшемся в 1900 году Парижском конгрессе предложил подумать об основаниях математики, что спровоцировало жаркие обсуждения и споры. Они продолжались десятки лет.
Словом, всё самое святое в науке — детерминированная Вселенная-машина, линейность времени, довлеющая роль среды в эволюции, волновая структура света, фундаментальная аксиоматическая логика — было подвергнуто сомнению.
Наметился переход от одной научной парадигмы к другой, а в теориях о мозге наблюдался застой.
Ряд специалистов предприняли попытку обновить модель трёхмерного мозга-машины. Они стремились открыть в нём четвёртое измерение.
Есть легенда, что психиатр Карл Густав Юнг, ученик Зигмунда Фрейда, предвидел Первую мировую войну. Неизвестно, так ли это.
Но если в этом есть хоть какая-то крупица смысла, то она в том, что специалист, ценивший присущую человеку интуицию, ощутил, что видеть во всех проявлениях человеческой жизни механизмы, рефлексы и жёстко детерминирующие поведение аффекты — явный перебор. Биологизированный, зажатый субъект, которым предписывал считать растянувшегося на кушетке пациента классический психоанализ, Юнгу не нравился.
Психиатр описал архетипы: «изначальные образы» или «унаследованные структуры мышления», помещенные в культурную память народов, т.н. «коллективное бессознательное».
По мнению Юнга, помимо биологических инстинктов, психологической маски и надзирающей (социальной) структуры, каждый человек обладает ещё частичкой «коллективной души». 28
Это, в интерпретации специалиста, и есть четвёртое измерение мозга.
Фрейда и Юнга часто противопоставляют: первый-де — материалист, а второй — идеалист и даже мистик.
В действительности концепция наследника Фрейда прагматичнее, ближе к реальности. У Юнга человек, скорее, одухотворенный полуавтомат, чем динамическая машина.
Скажем, предложенный аналитиком метод «активного воображения» предвосхитил возникшую впоследствии арт-терапию. А, например, индивидуация (современные синонимы: самопознание, самоактуализация, самосознавание и т.д.), которой Юнг придавал большое значение, стала описываться как главная цель человеческого бытия в работах таких видных представителей гуманистической психологии, как Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Джеймс Бьюдженталь.
Классическую рефлекторную теорию Сеченова-Павлова попытался очеловечить психолог Лев Выготский.
Он сформулировал три этапа развития поведения живых систем: преобладание биологических механизмов адаптации (инстинкты), преимущественно средовые приспособительные реакции (условные рефлексы) и собственно разумное поведение (человеческий интеллект). Описывая интеллект, психолог оговаривался, что этот этап не является пределом эволюции приспособительного поведения.4
Четвёртый этап, по мнению Выготского, происходит прямо сейчас (1930е гг.) и представляет собой совершенствование культурных инструментов. Тогда четвёртое измерение мозга — психологическое. Оно сформировано сознанием и представлено в мозге высшими психологическими функциями. Которые, в свою очередь, возникли в ходе культурно-исторического развития нашего вида.5
Мысль, как видим, совершенно юнговская. Не случайно, нынешние исследователи прямо связывают идеи Выготского и Юнга.6
Наиболее плодотворной попыткой облагородить тезис «мозг-машина» выглядит теория поля, завершенная психологом Куртом Левином к концу 1940х гг.
Концепция выросла из гештальт-психологии, которая, в свою очередь, возникла как ответвление экспериментальной психологии Вильгельма Вундта.
Впрочем, концепция Левина далеко ушла от своих корней. Прежде всего потому, что создатель теории поля чрезвычайно интересовался современными ему научными идеями.
Существенно не то, что Левин активно заимствовал такие понятия, как «физическое поле» и «валентность», а то, что попытался устранить из природы человека грубую физиологическую составляющую. Психолог стремился вернуть утраченную веру в человечество и человечность.
С одной стороны, вышло чересчур схематично. Левин почти буквально воспроизвёл логику четырёхмерного пространства-времени из общей теории относительности. Выделил в человеке измерения: личностно-субъективное («персона»), социально-объективное («среда»), соотношение субъективное/объективное («персона»/среда) и измерение психологического времени («временная перспектива»).34,35 Получилась довольно умозрительная концепция, которую справедливо упрекали в субъективизме.38
С другой стороны, именно идеи Курта Левина определили теорию и практику доброй половины современных психологических школ.
Как бы там ни было, четырёхмерный ли, трёхмерный ли мозг-машина — суть модели не менялась.
Мейнстримное научное объяснение, хоть и находилось в кризисе, поколеблено не было. Специалисты не желали уступать в том, что обеспечивало им монополию в области самопознания.
К середине XX века накопилось немало версий механического мозга.
В представлении Декарта разум был воплощением «живой машины»; Сеченов описывал человеческий мозг как «электрическую машину»; Павлов — «рефлекторную машину»; Фрейд — «динамическую машину»; Юнг — «духовную машину»; Выготский — «культурно-историческую машину»; Левин — «пространственно-временную машину» и т. д.
Эти версии соперничали, во многом повторяли друг друга и, разумеется, объявляли себя самыми правильными.
В 1934 году в Ленинград, в гости к Ивану Павлову приехал Нильс Бор.
В то время физик вёл активную просветительскую работу: разъезжал по миру в надежде завербовать как можно больше сторонников новейшей научной концепции.
Учёный, в сущности, ставил вопрос о синтезе физики и биологии на основе квантовой теории. С позиции этой концепции он в 1913 году объяснил строение атома, и сделал это лучше, чем Резерфорд, принимавший в расчёт только классическую теорию электродинамики.
Бор ясно сознавал необходимость коррекции ключевых «естественнонаучных» теорий с учётом обновленного знания. Несмотря на напряжённую интеллектуальную работу в своей области, физик счёл необходимым изучить актуальную нейрофизиологическую проблематику.
За два года до встречи с Павловым он писал: «Признание важного значения черт атомистичности в механизме живых организмов само по себе не является …достаточным для всестороннего объяснения биологических явлений. <…> Не следует ли добавить к нашему анализу явлений природы ещё какие-то недостающие пока фундаментальные идеи, прежде чем мы сможем достигнуть понимания жизни на основе физического опыта?». 3
Неизвестно, беседовали ли, среди прочего, об этом Павлов и Бор во время их ленинградской встречи.
Возможно, нейрофизиолог попросту не понял — не захотел понять — о чём говорит физик? (Возраст обоих лауреатов Нобелевской премии обозначался одинаковыми цифрами, но в «зеркальном» отображении: Бору было ещё 48, Павлову — уже 84.)
Трудно судить. Ясно только, что прославленному и уважаемому академику вряд ли было легко принять новую физическую картину мира. Где столь любимому им принципу механицизма — этой основе основ рефлекторной теории — отводилась второстепенная роль.
Модель «мозг-машина» существует до сих пор.
Синтез различных версий классической механической модели и её модификаций обеспечил во второй половине XX века развитие двух главных нейронаучных трендов.
К первому относится становление и расцвет экспериментальной нейробиологии, функциональных и визуализационных методов исследования мозга. Ко второму — появление социальной психологии, детской психологии и целой россыпи психотерапевтических методов.
Апофеозом трёхаспектного понимания человека стала, ныне догматичная и категоричная, философия ортодоксального научного мейнстрима. Которая явлена, например, в известной формулировке Всемирной Организации Здравоохранения: «Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия». 23
Три способа описания — Три измерения — Три причины всех человеческих мыслей, чувств, поступков. Самодостаточное и универсальное триединство: как христианская Троица, как три слона или как три панциря нагромождённых друг на друга черепах, на которых покоится мир.
Следует признать, что не только в отношении мироздания, но и для механического толкования человека это исчерпывающее объяснение. И добавление к нему четвёртого измерения нужно как телеге пятое колесо.
Поклонники механического мозга игнорируют очевидную теоретическую неполноту модели. Они закрывают глаза на массу фактов, накопленных с момента кризиса данной концепции, за последнюю сотню лет.
Для них совершенно необъяснима противоречивая и непредсказуемая природа человека — временами легко и безвольно соглашающегося на любые предписания, а иногда бунтующего вопреки своим же интересам.
Им абсолютно непонятно, почему сформированные бесстрастными механизмами эволюции инструменты, интеллект и память, у десятков-сотен миллионов молодых людей сегодня функционируют не так, как написано в их книжках.
Разве рефлексы — не универсальные пружины восприятия, обучения, понимания, запоминания и воспроизведения? И разве психоанализу, некогда свершившему психотерапевтическую революцию, а ныне облечённому в удобную для пациента, краткосрочную, форму, не суждено возродиться?
Специалисты по мозгу-машине суровы и молчаливы, как их доктрины. Они вычерпали из идеи о механическом разуме всё, что смогли. Им больше нечего сказать.
Можно лишь ворчать, вменяя «ленивому» и «безответственному» поколению нежелание учиться и постигать «естественнонаучную» истину — пенять на их «клиповое мышление», «плохую память»…
Однако, по совести говоря, в плохой памяти следовало бы обвинить самих специалистов. Они позабыли, что теория о мозге-машине пришла не из их экспериментов и заумных рассуждений о «психике» и «бессознательном», а из фундаментальной науки — из математики и физики.
То есть из того же источника, в котором родилась следующая научная теория об устройстве и работе мозга.
Рисунки и таблицы к главе 3
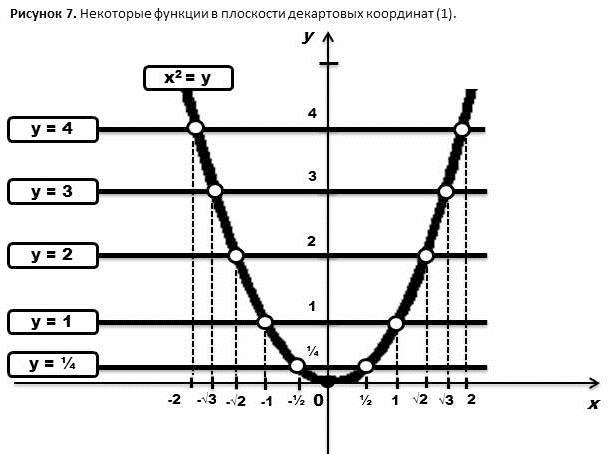
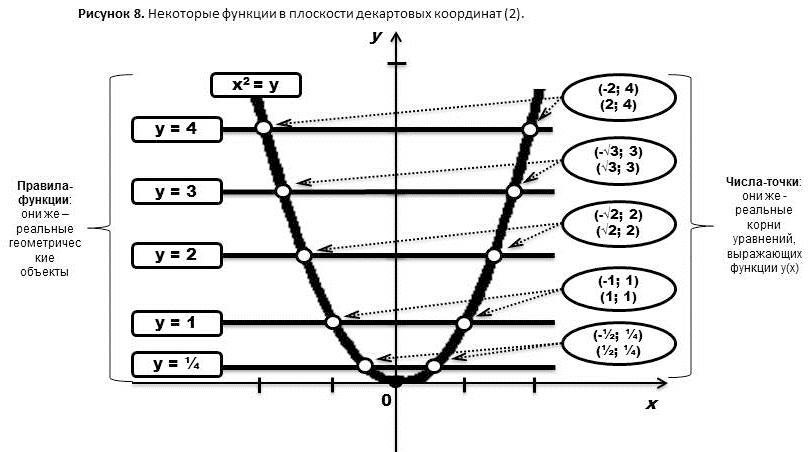
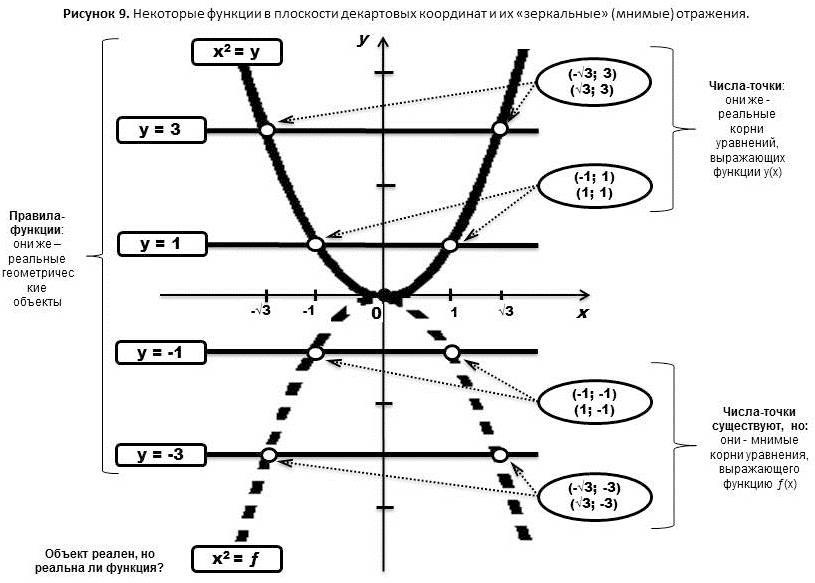

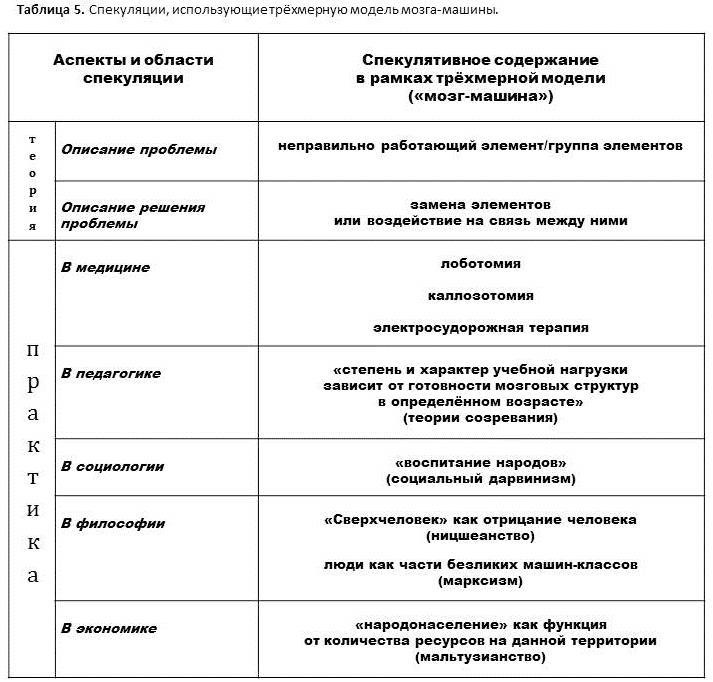
Глава 4. Мозг-компьютер
«42», — сказал Думатель, с бесконечной величественностью и спокойствием
писатель Адамс сообщает ответ суперкомпьютера на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Вообще
It from bit
физик Уилер пытается всё объяснить
Про роботов, шахматы и вычисления
В этой главе мы обсудим т.н. «вычислительную модель» — представление о человеческом разуме, которое в сжатой форме сводится к тезису «мозг — это компьютер».
Надо сказать, что в научпопе, поглощенным вопросом «Похож ли мозг на компьютер?», уже сложился своего рода канон. Считается хорошим тоном, как минимум, упомянуть три факта:
— идея о мозге-компьютере родилась в художественной литературе (чаще всего указывают на 1920 — год публикации пьесы Карела Чапека «R.U.R.», где впервые описаны разумные роботы);
— приоритет научной формулировки или, как вариант, первенство в популяризации проблемы принадлежит математику Алану Тьюрингу (обязательна ссылка на его статью 1950 г. «Вычислительные машины и интеллект»);
— победа шахматного автомата, суперкомпьютера Deep Blue, над действующим чемпионом мира Гарри Каспаровым (в мае 1997 года).
Самое смешное, что эти факты не имеют никакого отношения к проблеме устройства живого мозга. Они не имеют отношения даже к попытке описать его как вычислительное устройство.
Объяснимся. Правда, сделаем это, обсуждая приведённые выше факты в ином порядке: статью Тьюринга оставим напоследок.
В пьесе Чапека речь идёт о похожих на человека машинах, действующих автоматически — по предписанной программе или согласно поступающим онлайн приказам. Автор назвал их «роботами».
Трудно всерьёз обсуждать возникновение научных идей из творений художников, но заметим, что в произведении Чапека нет ничего ни про компьютеры, ни про компьютерный мозг.
Метафора автомата, копирующего поведение человека, стара как мир.
Воплощения разнообразны: от ветхозаветного Голема до чудовища Франкенштейна и Железного Дровосека из Страны Оз. (Подробнее о фольклорных сюжетах, где фигурирует персонаж «автомат» мы поговорим в главе 10).
Факты про шахматные автоматы, побеждающие человека, тоже не такие уж свежие и сенсационные, как представляется на первый взгляд.
В конце XVIII — начале XIX века по Европе в сопровождении группы предприимчивых «инженеров» гастролировал шахматный автомат под названием «Механический Турок».
Устройство представляло собой фигуру, облаченную в «традиционный турецкий костюм» и сидящую за столом-тумбой, на котором лежала шахматная доска. Желающих приглашали сыграть. При этом открывали створки стола-тумбы и демонстрировали хитрый механизм из шестерёнок и прочих деталей-узлов неизвестного назначения. Зрителей убеждали: всё по-честному. Участник шоу садился напротив «Турка», механизм заводили специальным ключом, и начиналась игра.
С Турком-шахматистом сражались знаменитости: Наполеон, Бенджамин Франклин, Эдгар Алан По. Механизм одерживал верх не только над ними, но и над многими сильными игроками. Образованная публика была в восторге от чуда техники и славила прогресс.
Обман раскрылся в 1834 году.
Оказалось, что в стол-тумбу помещался человек, умеющий играть в шахматы. То был, как правило, искусный мастер. Он получал информацию о перемещении оснащенных магнитами фигур посредством отдаления-притяжения металлических шариков под каждым полем доски, и управлял руками «Турка» с помощью системы тросов и рычагов. При демонстрации внутреннего пространства стола-тумбы створки открывались так, что человек мог прятаться за одной из них и за бутафорским механизмом.59
Корректно ли сравнивать жульничество из далёкого прошлого с современными суперкомпьютерами, обыгрывающими чемпионов мира?
Я и не сравниваю. Лишь напоминаю: с единичными фактами, какими бы яркими они ни казались, нужно обращаться осторожно.
Почти сразу после завершения памятной игры, шахматного поединка между Deep Blue и Гарри Каспаровым в 1997 году, чемпион мира потребовал у разработчиков суперкомпьютера, сотрудников компании IBM, организовать матч-реванш. Ему отказали.
Каспаров обратил внимание, что некоторые игровые решения (как удачные, так и ошибочные) Deep Blue чересчур напоминали человеческую логику. Он намекнул, что, возможно, эти ходы были результатом «мозгового штурма», предпринятого группой гроссмейстеров, скрытых от глаз публики. В конце концов, сам суперкомпьютер располагался в отдельном помещении, а шахматные фигуры двигали операторы из IBM. Если б удалось доказать, что Каспаров прав, то вышло бы, что имела место мистификация в духе аферы с «Турком».
Однако стороны предпочли не раздувать конфликт. Deep Blue вскоре демонтировали, а факт первой шахматной победы компьютера над чемпионом мира вошёл в историю.
Скорее всего, Deep Blue победил честно. Последующие поединки — других суперкомпьютеров и других людей-гроссмейстеров — неизменно завершались в пользу машины.
Любопытно не это (думаю, нас не слишком задевает, скажем, тот факт, что на планете есть существа, живые или искусственные, которые бегают быстрее, чем мы; умеют летать; чувствуют электромагнитные поля и пр.). Интересно иное: имитация довольно узкой способности нашего мозга — хорошо играть в шахматы — действительно могла бы прояснить некоторые аспекты его работы.
В книге «Человек и компьютер» Гарри Каспаров описывает две стратегии, по которым развивались шахматные программы в 1980—90х гг.
Первая стратегия условно может быть названа «грубой силой». Она сводится к наращиванию скорости вычислений, т.е. увеличению объёма анализируемых устройством позиций за единицу времени.
Вторая стратегия — «выборочный поиск», где приоритетом является генерация гипотетических позиций без тщательной проверки каждого хода.
Как отмечает Каспаров, «выборочный поиск» суть эвристический метод анализа и напоминает интуитивное мышление человека (хотя, конечно, не является единственной стратегией, которую использует наш разум).
Однако разработчики шахматных суперкомпьютеров предпочли «грубую силу». Которая, по мере развития мощности процессоров, одержала закономерную победу над медленно вычисляющим мозгом человека.
Deep Blue в течение каждого хода генерировал огромное число вариантов дальнейшего развития партии. Условно говоря, за то время, пока человек в уме просчитывал одну комбинацию, суперкомпьютер успевал вычислить миллион вариантов. После чего ему оставалось лишь выбрать лучший.
Размышляя о том, что было бы, если б разработчики современных шахматных автоматов пошли по пути выборочного поиска и других подобных стратегий, Гарри Каспаров пишет: «Это обилие интересных идей, призванных повысить эффективность интеллектуальных машин, показывает, почему попытки понять, как работает человеческий разум, и проникнуть в тайны мышления были отброшены. Что важнее — процесс или результат? Люди всегда хотят результатов, будь то в инвестировании, сфере безопасности или шахматах. Такое отношение, сокрушались многие программисты, способствовало созданию сильных шахматных машин, но ничего не дало науке и прогрессу в области ИИ [искусственного интеллекта — Р.Б.]. Шахматная машина, которая думает как человек, но проигрывает чемпиону мира, не сделает сенсации. Когда же шахматная машина побеждает чемпиона мира, никого не волнует, как она думает». 6
Примечательно, что первая версия суперкомпьютера, который готовили к поединку с Каспаровым, назывался Deep Thought (один из возможных переводов — «Думатель»). Инженеры и программисты IBM взяли это имя из фантастического романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».
По сюжету произведения люди, создавшие суперкомпьютер, ищут ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Вообще. Результат вычислений «Думателя», произведенных им в течение семи с половиной миллионов лет (!), приведён в эпиграфе к этой главе. Когда разочарованные таким ответом потомки создателей суперкомпьютера бросили ему горький упрёк, тот резонно заметил, что неплохо бы для начала чётко сформулировать вопрос.21
Сумел бы реальный Deep Blue или иной современный суперкомпьютер ответить на такой вопрос? Или, как верят свидетели трансгуманистического рая, нужно ещё немного подождать? Когда-де изобретут сверхмощный ИИ, и он, подобно хорошо известным фантастическим историям, станет за нас управлять экономикой, медициной, образованием, участвовать в урегулировании политических и семейных разногласий, и всё ж таки просветит нас — в чём смысл жизни?
Проблема в том, что, чтобы управлять чем-либо (не говоря уж о размышлении над вопросами типа «в чём смысл жизни?»), надо о том, чем управляешь, знать всё (для ответа на вопрос о смысле жизни надо определить, что понимается под «смыслом» и «жизнью»). Или, по крайней мере, быть уверенным в правилах, по которым это работает.
В отношении социогенеза и взаимодействия отдельных людей никто таким знанием не обладает. Ни какой-либо человек, ни человечество.
Почему?
Потому что у этих объектов-феноменов нет правил. И нет ограничений по объёму информации.
В поведении человека и в поведении групп людей возможно всё — в отличие от шахмат, шашек, го, покера и прочих искусственных моделей реальности, ограниченных по числу возможных состояний.
К списку, в котором фигурируют сложные явления социогенеза и феномены человеческой коммуникации, можно добавить ещё один объект.
Это живой мозг. Собственно, он-то и является источником сложности.
Раз так, то спрашивать — похож ли мозг на компьютер (то и другое умеет играть в шахматы)? — всё равно, что задаваться вопросом: «Похож ли человек на муравья (то и другое шевелится)?» или «Похожа ли Вселенная на Луну (то и другое имеет форму сферы)?».
Раз так, то всякий суперкомпьютер или любой другой гипотетический вычислитель — ИИ, Deep Thought, «Думатель» и пр. — никогда не сравнится с человеком по способности решать интеллектуальные задачи всех, какие только существуют, типов.
Проигрывая в скорости вычислений, мы всегда будем выигрывать в области невычислимого.
Т.е. в такой области, которая намного (на очень много!) превышает пространство вычислений, где не действуют никакие, заранее заданные, правила и где компьютеры бессильны.
Короче говоря, машины думать не умеют. Более того: никогда не будут уметь.
Сделав это провокационное заявление, мы вплотную подошли к обсуждению статьи Алана Тьюринга «Вычислительные машины и интеллект» — последнему популярному аргументу любителей порассуждать о мозге-компьютере.
Во-первых, заметим, что нашумевшая статья была опубликована не в математическом или физическом журнале: автор выбрал философский журнал с говорящим названием «Mind».
Помимо прочего это указывает на то, что Тьюринг не стремился сформулировать научную проблему. Ведь последнее подразумевает наличие гипотезы — утверждения о предполагаемом факте и/или закономерности.
Ничего подобного в статье нет.
Во-вторых, вопрос, который чаще всего цитируют («Могут ли машины мыслить?»), по ходу изложения трансформировался у автора в «Могут ли машины имитировать поведение человека?».
Согласимся, что вопросы относятся к разным предметам.
Первое — явный эпатаж для привлечения дополнительного интереса (с таким же успехом можно вопрошать: «Может ли трактор мыслить?» или «Есть ли у самолёта душа?»).
Второе — попытка перевести философскую проблему в прикладное русло. Которая, собственно, выразилась в предложенном математиком способе отличить человека от его имитатора — в том, что сейчас зовётся «тестом Тьюринга». 62
На мой взгляд, совершенно ясно, что Тьюринг не делал предположения о том, что машины, вообще говоря, могут мыслить.
Следовательно, эта статья, скажем, к проблеме конструирования ИИ не имеет никакого отношения. И даже не формулирует её.
Какого-либо предположения об устройстве живого мозга, как мы отметили выше, в публикации тоже нет.
Значит, о модели «мозг-компьютер» речь также не идёт.
Так о чём речь? Что интересовало Тьюринга?
«Похож ли компьютер на мозг?» — вот что, по всей видимости, хотел узнать Алан Тьюринг, и поделился этим желанием в статье 1950 года.
Кому, как не Тьюрингу, создателю концепции вычислительного автомата (подробнее — в подглаве «Computor и Computer»), спрашивать об этом? Должны ли мы удивляться, что математик попытался расширить представление о возможностях своей теории вычислений — увидеть ещё одно полезное приложение своему детищу?
В этом контексте пресловутый тест Тьюринга — не сколько-нибудь реальный способ доказать, что робот/автомат/компьютер/ИИ в результате, например, машинного обучения достиг такого уровня интеллектуального развития, что стал неотличим от человека.
Это фольклор, а не наука. Детская сказка. Сюжет для фантастического блокбастера.
Тест Тьюринга — попытка ещё раз проверить ключевую идею математика о том, что вычисления компьютера и вычисления живого мозга имеют единую фундаментальную основу. Проверить, не ошибся ли он, отождествляя эти процессы у машины и человека.
Тот счастливый для современных машинопоклонников день, когда искусственный вычислитель всё-таки пройдёт полный тест Тьюринга, будет означать не то, что компьютер может полностью заменить человеческий мозг, и не то, что якобы состоялось долгожданное рождение ИИ.
Этот день будет означать лишь тот заурядный и давным-давно интуитивно понятный факт, что наш мозг может, в том числе, вычислять, как компьютер.
Только и всего.
Увы, нам пришлось отвлечься и потратить время на разъяснения, чтобы несколько проредить туман, навеянный пылкими «говорящими головами», бессвязно и бездумно повторяющими мантры про разумных роботов, шахматные суперкомпьютеры и тест Тьюринга.
Сделав эту необходимую предварительную работу, возвращаемся к науке — к вычислительной модели живого мозга.
Как в предыдущей главе, попытаемся для начала разобраться, кому, как и почему пришла в голову оригинальная идея — интеллектуальная инновация об устройстве разума.
Бинарная логика, или Какой рост у Сократа?
Идея о механическом мозге родилась в период расцвета механической парадигмы в науке.
Идея о мозге-компьютере появилась во время становления другой научной парадигмы. Назовём её идеей вычисляемой дискретности или, проще, цифровой парадигмой.
Сразу заметим, что под идеей вычисляемой дискретности мы не имеем в виду смутные взгляды воротил мысли из далёкого прошлого. Концепция атомизма древнегреческого философа Демокрита столь же похожа на «монады» Лейбница, сколько аверроизм — на «дуализм» Декарта.
Механическая и цифровая парадигма развивались параллельно, но с временным лагом: по темпу распространения первая значительно опережала вторую.
Поэтому тогда, когда Рене Декарт и Исаак Ньютон предложили уже более-менее проработанное механическое толкование, соответственно, мозга и Вселенной, их современник, другой выдающийся учёный, Готфрид Лейбниц фактически заложил основы принципиально иного, универсального, ответа на фундаментальные вопросы о мироздании, о жизни, о природе бытия и о разуме.
Универсализм — характерная черта творчества Лейбница, профессионального математика и мыслителя с чрезвычайно широким кругозором. В какую бы область познания ни обращался его беспокойный и могучий ум, всюду он стремился найти общий закон.
В математике, независимо от Ньютона, он изобрёл дифференциальное исчисление. В физике, полемизируя с Декартом, дал верную интерпретацию кинетической энергии. В лингвистике пробовал соорудить всеобщий язык, назвав его «универсальной характеристикой». В философии выдумал «монады», которые суть мельчайшие, наделенные духом, свойства бытия.
В каждом случае просматривалась одна и та же мысль: непрерывное движение бесконечно малых величин, подчиненных закону необходимости. Это и есть прообраз идеи вычисляемой дискретности.
Разгадка «загадки атомизма Лейбница», возможно, содержится в его интересе к химии, где становились популярными корпускулярные идеи.23 Но, скорее всего, дело всё в той же математике.
Дифференцирование — развитие идеи числа как отношения величин. Как и Декарт (см. главу 3), Лейбниц, разъясняя суть нового метода исчисления, прибегал к геометрической метафоре: кривизна объекта (например, наклон касательной в данной точке параболы) на данном отрезке определяется отношением приращения значения функции к приращению аргумента: dy/dx.
Сейчас такое отношение принято называть пределом (при условии, что аргумент стремится к нулю).61
Эта математическая истина преобразовалась у Лейбница, по выражению историка науки Мартина Дэвиса, в мечту о создании всеобщего закона, который позволил бы сконструировать универсальный язык и универсальную вычислительную машину. Она могла бы, скажем, работать на основе бинарной арифметики, которой математик в 1703 году посвятил специальную работу.33
Не вдаваясь в тонкости мировоззрения Лейбница, вряд ли будет натяжкой сопоставить придуманные им «монады» с разумным и активным «субъектом» в понимании Гегеля, а, значит, увидеть в работах великого математика попытку возвести логику в ранг главной науки.
Ведь математическая логика в этом случае выступает как один из инструментов самопознания абсолютного духа, которое Гегель поместил в рамки строгой (в философском смысле) диалектики.5
Тогда дискретность, по Лейбницу, есть универсальный принцип, в соответствие с которым развивается «предуготовленная гармония».
Непрекращающееся движение материи — это влияние друг на друга микроскопических носителей (поэтому не принимается декартова идея о протяженной субстанции), которое осуществляется прямо, без посредничества эфира или пустоты (поэтому неприемлема ньютонова дальнодействующая гравитация), и составляет видимые нам сложные агрегаты и разнообразные феномены.
Несмотря на россыпь остроумных и проницательных догадок, оставленных нам Лейбницем, мы не можем назвать его отцом вычислительной модели разума.
Впрочем, его интеллектуальное наследие не пропало. Им воспользовался математик Джордж Буль: именно ему принадлежит идея о мозге-компьютере.
Джордж Буль, подобно Августину и Декарту, сказал новое слово в теории живого мозга. Суть инновации: наш разум работает по правилам бинарной логики.
Любопытно, что Буль не пытался построить новую модель разума. Он лишь уточнял уже существовавшее и набиравшее популярность представление о мозге, как механизме.
Как и Декарт, который не критиковал модель «разум и чувство» по существу, а лишь слегка, в его представлении, её подправил.
Но вышло так, что скромное уточнение стало начальным звеном в цепочке рассуждений, завершившейся принципиально иным объяснением.
Нас будет интересовать, прежде всего, обобщающая по этой теме работа Джорджа Буля «Исследование законов мышления, на которых основываются математические теории логики и вероятностей» (1854 год).
Уже само название работы говорит о многом.
Учёный не сомневался, что социальные и психологические процессы подчинены тем же законам статистики, что и движение небесных тел. А наличие свободной воли считал неким субъективным фактом — особенностью нашего самовосприятия.
Математик исходил из того, что человеческий разум сочетает в себе способность к логике и вычислениям. Для Буля это разные вещи: логика может быть нематематической и крайне субъективной, а Вычисления (англ. Calculus) существуют независимо от наших желаний. В указанной работе учёный сделал соответствующее духу времени заявление: «Дело науки — не создавать законы, а открывать их». Что, по его мнению, достигается путём анализа наблюдений и опыта.
Буль постулировал: наш мозг работает по «фундаментальным законам рассуждения на символическом языке исчисления».
Следовательно, задача состоит в том, чтобы описать эти законы, открыть их — создать «науку об интеллектуальных операциях» (англ. science of the intellectual operations).27
Разбирая известные со времён Аристотеля правила логики, Буль нашёл их неполными.
Вот, например, классический простой силлогизм:
Все люди смертны.
Сократ — человек.
Сократ смертен.
Давным-давно разъяснено, как строится такая конструкция: из двух предпосылок делается частный вывод.
Большая (общая) предпосылка всегда идёт первой и содержит описание характеристики или свойство, о наличии/отсутствии которого надлежит сделать вывод (в данном случае — «подверженность смерти»).
Малая (частная) предпосылка идёт следом за большой: содержит указание на субъект (в данном случае — «Сократ»), относительно которого выводится следствие.
Объединение большой и малой предпосылки приводит к заключению: наделён ли субъект искомым свойством (в данном случае — да, наделён; поэтому «Сократ смертен»).
Подмечено, что, следуя указанным правилам построения силлогизма, можно прийти к абсурдному выводу.
Скажем, посредством т.н. «подмены тезиса».
Работает это так:
Все люди смертны.
Все не люди не смертны.
Кот Сократа — не человек.
Кот Сократа бессмертен.
Несмотря на абсурдное заключение, с точки зрения аристотелевской логики придраться тут не к чему.
Опытный демагог будет трактовать второе утверждение как расширение (уточнение) большой предпосылки. Далее — всё по правилу: малая предпосылка и вывод.
Можно, конечно, с демагогом поспорить.
Ввести правило проверки большой предпосылки: из практического опыта вовсе не следует, что все, кого нельзя назвать человеком, бессмертны. Но тогда придётся формулировать объект проверки (кого включать в категорию «не люди»? ), провести бесконечное число наблюдений (а вдруг кто-то из «не люди» действительно бессмертен? как это узнать?) и т. д.
Одним словом, спорить будете долго, нудно и безрезультатно. Как это, собственно, и происходило в диспутах средневековых схоластов.
Чтобы избежать подобных, пустых и бессмысленных, разглагольствований, Буль предложил в логику включить арифметику.
Для начала математик постулировал, что всякое высказывание состоит из элементов: простейших, логически неделимых, объектов. Этими элементарными объектами могут быть, как факты, так и предположения.
Далее Джордж Буль предложил рассматривать элементы высказываний как бинарную оппозицию: объект и его противоположное по смыслу значение (их можно обозначить словами «истинно» и «ложно» или, соответственно, цифрами 1 и 0). Тогда все операции над элементами становятся, по сути, арифметическими.
При этом устанавливается особый порядок их выполнения: сначала необходимо выполнить «логическое вычитание самого себя», затем — «логическое умножение» и только потом — «логическое сложение».
Возьмём первое высказывание из классического силлогизма: «Все люди смертны».
Из него выделим элементарные высказывания, а затем выполним операцию «логическое вычитание» (у каждого элемента появится противоположный по значению двойник — подобно тому, как у каждого положительного числа есть его зеркальный партнёр, отрицательное число).
Тогда обнаружим четыре объекта: «люди» (1), «не люди» (0), «смертные существа» (1), «бессмертные существа» (0).
Далее, в соответствие с бинарными обозначениями объектов, составим все возможные варианты их сочетаний.
У нас получится четыре фразы, в каждой из которых произведём «логическое умножение» элементов и вычислим результат по правилам арифметики.
Для первой предпосылки («Все люди смертны»):
Все люди смертны. (1 · 1 = 1) [истинно]
Все не люди смертны. (0 · 1 = 0) [ложно]
Все люди не смертны. (1 · 0 = 0) [ложно]
Все не люди не смертны. (0 · 0 = 0) [ложно]
Для второй предпосылки («Сократ — человек») произведём те же операции и получим другой квартет фраз:
Сократ — человек. (1 · 1 = 1) [истинно]
Не Сократ — человек. (0 · 1 = 0) [ложно]
Сократ — не человек. (1 · 0 = 0) [ложно]
Не Сократ — не человек. (0 · 0 = 0) [ложно]
Теперь выполним «логическое сложение»: сложим результаты полученных произведений логических элементов в каждом квартете.
Ясно, что смысл имеет комбинация только первых фраз из каждого квартета. В остальных случаях либо одна из предпосылок повторяется, либо получается буквально ничего — 0.
Важно, что в имеющей смысл сумме («Все люди смертны» + «Сократ — человек») есть общий элемент («человек» — часть множества «люди»). Значит, объекты «Сократ» и «смертен» эквивалентны («равны»).
Итак, мы пришли к такому же заключению, что и в классическом силлогизме.
Возникает справедливый вопрос: ну, и зачем нужна бинарная логика? Не является ли это избыточным усложнением доказательства интуитивно понятного факта?
Нет, не является.
Бинарная логика нужна, чтобы не попасть в ловушки классической логики и чтобы делать разумные, имеющие смысл, выводы.
Способ построения высказываний, предложенный Булем, позволяет, например, устранить ложные предпосылки, наподобие тех, что вводятся при осуществлении «подмены тезиса».
Фраза «Все не люди не смертны» на этапе «логического умножения» отвергается как ложное (бессмысленное) высказывание. Вся прелесть в том, что тут даже спорить не о чем: обозначив элементы «не люди» и «бессмертные существа» как 0, при их перемножении мы получаем тоже 0.
Демагог может зайти с другого конца, зацепившись непосредственно за следствие — «Кот Сократа бессмертен», и попытаться втянуть вас в рассуждение на эту глубокомысленную тему.
Однако, по правилам бинарной логики, после «логического умножения» идёт «логическое сложение», а, поскольку имеют смысл только высказывания «Все люди смертны» и «Кот Сократа — не человек», сложить эти фразы не получается. Ведь они состоят из совершенно разных элементов: «люди», «смертные существа», «кот Сократа», «не люди».
Следовательно, абракадабра в виде «Кот Сократа бессмертен» — не результат логического рассуждения, а обычная выдумка.
Более того, Джордж Буль заметил, что применение правил бинарной логики позволяет выводить аксиомы.
В частности, из того, что высказывание «Все не люди не смертны» ложно, выходит, что обратная по смыслу фраза «Все люди смертны» действительно верна. Появляется как бы её «дополнительное доказательство» (философ Гегель сказал бы, что «снятие двойного отрицания приводит к истине»).
Тут, разумеется, нет никакого открытия. Это не что иное, как закон двойного отрицания, известный с древнейших времён. Заслуга Буля в том, что он привёл его математическое обоснование.
Но и это ещё не всё.
Большое практическое значение работы Джорджа Буля в том, что он связал описанные им правила математической логики с теорией вероятностей. А через неё — с общей методологией научного познания.
Выше мы отмечали, что Буль ясно различал факты и предположения. В реальности люди чаще всего сталкиваются с предположениями, а не с фактами. Поэтому в «законы интеллектуальных операций» следует включить вероятности.
Поясним сказанное на примере.
Вообразим, что учёные древних Афин решили выяснить точный рост своего соотечественника, философа Сократа. Проблема в том, что Сократу на это наплевать, и он не желает, чтобы длину его тела измеряли.
Учёных это не смутило (чего ещё ждать от убеждённого нонконформиста?). Они решили составить суждение о росте Сократа, исходя из значения длины тела у типичного жителя города. Учёные провели ряд измерений и выяснили, что рост соотечественников составляет не менее полутора и не более двух метров.
В число исследованных попало большинство жителей, но не все. Тем не менее, в соответствие с предложенными Аристотелем правилами логики, учёные вольны построить такой силлогизм:
Все люди имеют рост от 1,5 до 2 метров.
Сократ — человек.
Рост Сократа — от 1,5 до 2 метров.
Два коротких замечания: под «людьми» здесь понимаем «взрослых жителей Афин» и не станем обращать внимание на анахронизм (Сократ жил в более раннее время, чем Аристотель).
Помимо этого, что тут не так?
Джордж Буль обратил бы внимание на то, что элементы «люди» и «рост от 1,5 до 2 метров» — разного рода. Первое — факт, второе — предположение.
Чтобы второе стало первым, надо провести более тщательное исследование. В идеале — измерить рост у всего взрослого населения Афин. Или всё-таки уговорить Сократа.
Даже в условной реальности нашего примера ни то, ни другое неосуществимо. Население подвижно — кто-то уехал из города по делам, кто-то выбыл по болезни и т. д. А упрямый Сократ не поддаётся никаким уговорам.
Однако учёные нашли выход с тем, чтобы уточнить исходные данные. Они дополнительно определили рост у всех, кто не попал в первое исследование и кто был доступен, жителей Афин, а также — у нескольких, выбранных случайно, групп людей, живущих в других полисах страны. Т.е. теперь элемент «люди» стал фактически означать «взрослые жители Древней Греции».
По результатам нового исследования выяснилось, что у 10% рост ниже полутора метров, и ещё у 10% — выше двух метров. Тогда силлогизм преобразуется так:
Все люди с вероятностью 80% имеют рост от 1,5 до 2 метров.
Сократ — человек.
Рост Сократа с вероятностью 80% — от 1,5 до 2 метров.
По смыслу это мало чем отличается от исходной формулировки. Да и уточнение «с вероятностью 80%», хоть и верное по содержанию, как-то не внушает доверия.
Буль посоветовал бы древнегреческим учёным (окончательно махнём рукой на всякие анахронизмы) договориться о том, что называть «фактом» в данном исследовании. Пусть учёные решили, что фактом будет такой диапазон роста человека, значения которого встречается у 99,999% исследуемых.
Перепроверив данные, учёные древних Афин установили, что у 99,999% попавших в исследование людей (вредный Сократ по-прежнему игнорирует этот важный научный проект) длина тела укладывается в диапазон от 1,4 до 2,1 метров. Тогда:
Все люди с вероятностью 99,999% имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Сократ — человек.
Рост Сократа с вероятностью 99,999% — от 1,4 до 2,1 метров.
Перед нами — истинное научное заключение.
Во-первых, логически непротиворечиво. Во-вторых, тут только факты.
Джордж Буль был бы доволен.
Возможно, кто-то останется неудовлетворённым тем, что «рост Сократа с вероятностью 99,999% — от 1,4 до 2,1 метров». Ведь, если вы не заметили, так и осталось неясным — так, какой же точный рост у Сократа??
На это Лейбниц и Буль очень резонно ответили бы, что статистического факта-заключения, построенного по правилам бинарной логики, вполне достаточно.
Погоня за бесконечно малыми величинами бессмысленна, если мы эти величины или элементарные факты не различаем. И наоборот: чем яснее мы видим дискретные кусочки реальности, тем проще оценить их в оппозиции «истинно»/«ложно» — тем точнее и полнее, подобно пределу функции, может быть описана объективная реальность.
Так идея вычисляемой дискретности в интерпретации Готфрида Лейбница воплотилась в законы человеческого мышления, сформулированные Джорджем Булем.
Умница Грегор Мендель, тупица Шерлок Холмс
Бинарная логика оказалась настолько мощным инструментом объяснения мира и человека, что очень быстро нашла применение для решения ряда важных научных проблем.
Вместе с тем — что, впрочем, обнаружилось много позднее — её прикладное значение имеет строгие рамки.
В XIX веке одной из оформившихся и приобретших популярность концепцией в рамках механической парадигмы стала теория биологической эволюции Чарлза Дарвина.
Классический дарвинизм определил живую природу как сложную, самодостаточную и самоподдерживающую машину.
Где, вообще говоря, нет места случайностям и чудесам. Детали этой грандиозной машины, живые организмы, похожи на папу и маму (если говорить о двуполых существах) потому, что последние передают потомству полезные для приспособления признаки.
Причём — с небольшими, в рамках биологического вида, вариациями. Благодаря которым потомок имеет шанс выжить в среде, которая по каким-то причинам может измениться.
Превосходное и в целом верное объяснение наследственности и изменчивости, предложенное Дарвином, имело один существенный изъян: непонятно, в чём именно заключается механизм наследственности — как именно папа и мама передают полезный признак следующему поколению?
Предположение самого Дарвина о наличии некой, специфической для данного признака, молекулы или нескольких молекул, движущихся по сосудам и концентрирующихся в половых клетках родителей, выглядело неубедительно.
Правильную гипотезу предложил неспециалист — не биолог и даже не человек с «естественнонаучными» взглядами — Грегор Мендель.
Более того: этот исследователь придумал и осуществил эксперимент, доказавший его правоту.
Важно понимать, что Мендель вообразил общий закон, а не вывел его из эксперимента. При этом он размышлял — пусть, не определяя это именно так — в рамках не механической, а цифровой парадигмы.
На это указывают следующие обстоятельства и соображения.
Известно, что Мендель посещал лекции и семинары известного физика и математика Кристиана Доплера. Который не мог не знать о работах Джорджа Буля, посвященных бинарной логике. (Впрочем, учитывая присущую Менделю любознательность, он мог прочесть об этом самостоятельно.)
Отсюда становится понятным предположение Грегора Менделя о том, что в передаче информации между поколениями участвуют строго два свободно комбинирующихся фактора.
Каждая клетка организма содержит двойной набор подобных факторов: при передаче они сочетаются — как и положено в бинарной логике. Если в образовавшейся паре присутствует доминирующий фактор, у организма будет «основной» (доминантный) признак. Если в паре — только недоминирующие факторы, у организма проявится «альтернативный» (рецессивный) признак.
Последовавшие эксперименты Менделя были проверкой его догадки о существовании двух невидимых наследственных факторов, кодирующих признак по принципу бинарного шифра.16
Предпримем попытку реконструировать это исследование.
Мендель экспериментировал с горохом. Он изучал несколько наследуемых признаков и по каждому проводил отдельную серию опытов.
Мы обсудим лишь один признак — окраску семян.
У гороха встречаются два варианта окраски: зелёный и жёлтый. При этом в результате скрещивания разных сортов у гибридов чаще проявляется жёлтый цвет. Это тривиальное наблюдение, известное всякому садоводу-любителю.
Считая Менделя образованным человеком своего времени, а не полуграмотным выскочкой, мы склонны полагать, что он сразу догадался соотнести каждый цвет с одним наследственным фактором и наделить организм двоичным набором этих факторов.
Пусть рецессивный (зелёный цвет) признак кодируется «1», а доминантный (жёлтый цвет) — «0».
Тогда, чтобы воочию убедиться в «доминантности» жёлтой окраски, для первого скрещивания надо обязательно взять чистые сорта с разным цветом семян: соответственно с набором [1; 1] и набором [0; 0].
Мендель так и поступил.
Во время первого опыта он использовал один сорт гороха, у которого во множестве предыдущих поколений наблюдались только зелёные семена, и другой сорт — с окрашенными в только жёлтый цвет предками.
Как и ожидалось (от первого родителя потомку должна передаваться только «1», от второго — только «0»), в результате первого скрещивания все гибриды первого поколения оказались жёлтыми (набор [1; 0]).
Почему проявляется «0», а не «1»?
Вероятно, потому, рассуждал Мендель, что на клеточном уровне арифметическая операция «умножение» элементов предшествует их «сложению». Т.е. имеет место то, что описывал Джордж Буль в своих работах.
Тогда в результате следующего скрещивания среди гибридов уже второго поколения ожидаем четыре варианта:
Зелёный горох. (1 · 1 = 1) [альтернативный признак]
Жёлтый горох. (0 · 1 = 0) [основной признак]
Жёлтый горох. (1 · 0 = 0) [основной признак]
Жёлтый горох. (0 · 0 = 0) [основной признак]
Таким образом, гипотетическое ожидание отношения «альтернативный признак/основной признак» составляет 1:3. Проведенный Менделем эксперимент полностью подтвердил этот теоретический расчёт. У гибридов второго поколения наблюдалось расщепление признака: у ¼ — рецессивная версия, у ¾ — доминантная версия.
Заметим, что Мендель работал на выборке, состоящей из свыше двадцати тысяч семян.
Так что, со статистической достоверностью, которой столь большое значение придавал Джордж Буль, всё было в порядке.
Закономерность получила название «закон расщепления» и стала одним из законов Менделя, переоткрытых биологами-генетиками лишь полсотни лет спустя.
Причина откровенно запоздалого признания заслуг Грегора Менделя в науке состояла в том, что специалисты продолжали жить и думать в механической парадигме. В то время как он использовал ключевую концепцию — бинарную логику — из принципиально новой группы объяснений мира и человека.
Пока Мендель прозябал в безвестности, а разномастные специалисты упивались машинообразными метафорами, которые лепились ими на всё — от Вселенной до живых систем, цифровая парадигма продолжала развиваться.
Идеи Джорджа Буля о лежащей в основе человеческого мышления бинарной логике были обобщены и подвергнуты тщательной ревизии в работах другого выдающегося математика Чарльза Сандерса Пирса.
Ни много ни мало Пирс предложил концепцию, объединяющую классическую, бинарную и нечёткую логику.
Впрочем, математик называл их логическими приёмами и обозначал иначе: индукция, дедукция и абдукциия.52,53
Допустим, у нас имеется некий общий объект (сумка), включающий в себя неизвестное количество частных объектов (бобы), которые, как мы знаем, могут обладать разными характеристиками (например, бобы бывают белого и красного цвета). Бобов в сумке очень много, а время для проверки ограничено.
Требуется узнать: какого цвета все бобы в сумке?
Для своего логического исследования Пирс ввёл понятия: «случай» (англ. case), «результат» (англ. result), «правило» (англ. rule). Которые по значению были довольно близки к соответствующим математическим терминам.
«Случай» — это некий вероятностный факт. «Результат» — установленный в результате наблюдения факт. «Правило» — закономерность, выводимая или предполагаемая.
Далее математик продемонстрировал разные способы логики:
— Индукция.
Случай: Все бобы (случайно выбранные) из этой сумки.
Результат: Эти бобы белые.
Правило: Все бобы в этой сумке белые.
Как можно видеть, закономерность выводится из наблюдения. Чем больше опытов (допустим, что, не заглядывая в сумку и вынимая оттуда один боб за другим, мы каждый раз будем обнаруживать только белые бобы), тем правдивее вывод.
Вероятностный факт превращается в установленный, который считается правильной истиной.
— Дедукция.
Правило: Все бобы из сумки белые.
Случай: Эти бобы из этой сумки.
Результат: Эти бобы белые.
В отличие от предыдущего способа, здесь выдвигается предварительная гипотеза.
Отметим, что эта, предполагаемая, закономерность в контексте дедуктивного мышления строгая. Она абсолютно категорична. Раз уж мы предположили, что «все бобы из сумки белые», нас не интересуют иные гипотезы. Например, что «все бобы из сумки красные».
Тогда, занимаясь проверкой только гипотезы «все бобы из сумки белые», выяснили: во-первых, что частные объекты действительно принадлежат общей совокупности (вероятностная оценка случая); во-вторых, что каждый исследованный объект обладает искомой характеристикой или свойством (фактическая оценка случая).
По истечении определённого числа опытов делается вывод: гипотеза подтвердилась.
— Абдукция.
Правило: Все бобы из сумки белые.
Результат: Эти бобы (как ни странно) белые.
Случай: Эти бобы из этой сумки.
Принципиальное отличие абдукции от дедукции состоит в том, что предварительная гипотеза формулируется некатегорично, условно. Мы не устанавливаем абсолютное правило, а, понимая его относительность, держим в уме другие гипотезы.
Тогда, проверяя текущее предположение, приходим к удивительным («как ни странно») результатам. Доставая раз за разом бобы из сумки, обнаруживаем, что они белые. Если б мы забыли — как это произошло в процессе индукции и дедукции — что бобы бывают ещё и красные, результат нас бы не смущал. Но он таков, каков есть.
По истечении определённого числа опытов (держа в уме, что всё-таки проверены не все лежащие в сумки бобы) единственный вывод, который мы можем сделать: эти, исследованные, бобы из этой сумки.
То, что при этом они оказались белыми — частность. А «истина», в смысле исчерпывающего и окончательного ответа на вопрос «все ли бобы в этой сумки белые?», осталась неизвестной.
Рассмотрим те же способы логического рассуждения на примере из предыдущей подглавы, где мы тщетно пытались выяснить рост Сократа.
Применив методологию Чарльза Пирса, получим:
— Индукция.
Случай: Значение роста у жителей Древней Греции.
Результат: Жители Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Правило: Рост Сократа тоже — от 1,4 до 2,1 метров.
Поскольку рост Сократа непосредственно измерить мы не смогли, приходиться полагаться на логику. В данном случае — индуктивную.
Проводим как можно больше измерений: устанавливаем ростовой диапазон соотечественников Сократа. Полученный разброс (от 1,4 до 2,1 метров) эквивалентен свойству «белый» в примере с бобами. Рост всех (случайно выбранных) жителей Древней Греции укладывается в один диапазон. Так же, как все извлечённые из сумки бобы оказались белыми.
Следовательно, очень вероятно, что значение роста Сократа тоже находится в данном диапазоне. «Очень вероятно» — это 100%, т.к. почти у всех (точнее, у 99,999%), кого мы проверили, рост был именно таким.
«Истина» установлена.
— Дедукция.
Правило: Все жители Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Случай: Сократ — тоже житель Древней Греции.
Результат: Жители Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Здесь начинаем с гипотезы.
Откуда её можно взять? Откуда угодно — например, из трудов самого Сократа. Пофантазируем и представим, что в некоем сочинении философ упомянул, что за всю жизнь не встречал никого, ниже ростом 1,4 метра и выше 2,1 метра. Несущественно — правда это или нет; важно, что гипотеза у нас есть.
При проверке гипотезы нам нужно решить важный вопрос о выборке. Заметим, что для построения индуктивного заключения это неважно. Просто измеряем рост у всех подряд и получаем статистический факт. Он же — «истина».
В дедуктивной логике так нельзя. Она изначально вероятностная.
Вспомним, что, согласно Джорджу Булю, факт есть предположение с вероятностью, стремящейся к 100%.
Значит, измеряя рост у жителей Древней Греции выборочно (исследовать абсолютно всех не получается), надо сделать так, чтобы попавшие в исследования были типичными представителями различных групп: возрастных, гендерных, профессиональных и т. д.
На практике это означает, что нужно отловить некоторое число коллег Сократа — других философов. Желательно примерно того же пола и возраста.
Учитывая результаты измерения роста этих людей (в сочетании с результатами представителей других групп, сопоставимых по численности и прочим параметрам), индивидуальным значением длины тела самого Сократа можно пренебречь.
Мы можем уверенно сказать: неизвестное нам значение роста философа с вероятностью, стремящейся к 100%, окажется в диапазоне значений роста тех, кого мы выбрали в качестве объекта исследования. Т.е. «Сократ — тоже житель Древней Греции».
В примере с бобами идти путём дедукции было куда проще. Потому что принадлежность исследуемого боба к тем, что находятся в сумке, очевидна. Но насколько типичен Сократ для совокупности «жители Древней Греции» — вопрос нетривиальный (собственно, в решении подобных вопросов и состоит основная работа социологов и прочих специалистов, проводящих статистические исследования).
Определившись с выборкой, проводим исследование и получаем результат: гипотеза о том, что все жители Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров, подтвердилась.
Значит, рост Сократа — в том же диапазоне. Это «научный факт».
— Абдукция.
Правило: Чаще всего жители Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Результат: 99,999% жителей Древней Греции имеют рост от 1,4 до 2,1 метров.
Случай: Рост всех жителей Древней Греции с вероятностью 99,999% — от 1,4 до 2,1 метров.
Во-первых, рассматриваем все гипотезы.
То, что Сократ или кто-то ещё утверждает, что рост греков — не ниже 1,4 метра и не выше 2,1 метра, не имеет никакого значения. Даже если б было известно о каких-то, солидных научных исследованиях, подтверждающих наиболее вероятную гипотезу, это не должно нас волновать. Как и в примере с бобами (есть не только белые, но и красные), мы должны помнить: встречаются люди с ростом ниже 1,4 метра и выше 2,1 метра.
Впрочем, это не мешает начать работу с той же гипотезы, что при дедуктивном рассуждении.
Во-вторых, абдукция помогает увидеть слабости предыдущих способов (обратите внимание на выделенное слово «тоже», когда мы разбирали индукцию и дедукцию в примере с ростом Сократа).
«Правило» в индуктивном рассуждении строится на случайной аналогии.
Если в ряду наблюдаемых случаев один и тот же результат, значит, этот результат будет во всех случаях (см. в первом примере: «все бобы в сумке белые, потому что попадались бобы только такого цвета»; во втором примере: «рост Сократа такой же, какой у тех, кого мы исследовали»).
Ясно, что каждый следующий результат может опровергнуть установленную «истину».
Дедуктивное рассуждение приходит к заключению, основываясь на статистической аналогии.
Если вероятность результата данного случая очень высока, значит, все случаи будут с этим результатом («все бобы в сумке белые, потому что бобы такого цвета встречаются очень часто» и «рост Сократа такой, какой у среднестатистического грека»).
Очевидно, что при реализации редкого случая описанный «научный факт» окажется ложным.
Абдукция обходится без всяких аналогий, поэтому она, в сравнении с другими приёмами, описывает реальность полнее.
То, что мы можем вычислить, называется фактом («эти бобы из этой сумки» и «эти жители Древней Греции имеют такой-то рост»). Подкреплённый соответствующим расчётом вероятности.
А то, что мы не можем вычислить (цвет всех бобов в сумке и рост Сократа), честно квалифицируется как гипотеза. Которую ни в коем случае нельзя принимать за окончательную истину.
Чтобы немного разбавить это, явно перегруженное смыслами, разъяснение различных логических приёмов, воспользуемся примером из художественной литературы.
Обсудим т. н. «метод Шерлока Холмса», описанный в широко известных детективных произведениях сэра Артура Конана Дойла.
Лучшие — с художественной точки зрения — истории о приключениях Холмса мы рассматривать не будем.
Внятное описание дедуктивного метода там отсутствует (может, поэтому они и лучшие). Для демонстрации приёмов логики возьмём рассказ «Убийство в Эбби-Грейндж» (1904 год).
Очень краткое изложение произведения сводится к следующему: совершено убийство аристократа в его собственном доме, из которого пропали некоторые ценные вещи; полиция подозревает местную банду; свидетельства домочадцев (вдовы и служанки) подтверждают эту версию; Холмс придерживается другой версии, предполагая, что к убийству как-то причастна вдова; лондонский сыщик находит доказательства своей гипотезы и разоблачает настоящего убийцу — любовника супруги аристократа.7
Как рассуждают полицейские из рассказа Конана Дойла?
Они используют, в соответствие с классификацией Пирса, индуктивную логику:
Случай: Совершено убийство.
Результат: Улики и свидетельства указывают на бандитов.
Правило: Бандиты совершают убийства.
Как рассуждает Холмс?
Он применяет свой знаменитый дедуктивный метод:
Правило: «Домашние» убийства совершаются домочадцами.
Случай: Совершено типичное «домашнее» убийство.
Результат: Улики и свидетельства указывают на домочадцев.
Как бы рассуждали реальные детективы, если б описанные в рассказе события произошли в действительности?
Они — как и все обычные люди — включили бы абдуктивную логику:
Правило: Чаще всего «домашние» убийства совершаются домочадцами.
Результат: Улики и свидетельства указывают на домочадцев.
Случай: Совершено типичное «домашнее» убийство.
С индуктивной логикой, думаю, всё ясно.
По воле неглупого и образованного человека, писателя Артура Конана Дойла, ею и только ею наделены почти все персонажи историй про Шерлока Холмса, включая полицейских и доктора Ватсона.
В рассказе «Убийство в Эбби-Грейндж» официальные следователи, в отличие от частного детектива, не осуществляют предварительный анализ различных предположений (не сравнивают и не ранжируют их) и хватаются за менее встречающуюся гипотезу. Поэтому ожидаемо оказываются в дураках.
Вопреки распространенному убеждению о сущности дедуктивного метода, Холмс первым делом обращает внимание не на детали, а на общие гипотезы.
В обсуждаемом сюжете он рассматривает две версии, с его точки зрения, имеющие наибольший вероятностный вес, — «бандиты» (версия №1) и «домочадцы» (версия №2).
Откуда берётся вторая версия?
Это элементарно. Из криминалистического опыта Холмса, конечно. (И из колонки криминальной хроники в The Times, которую любил почитывать сэр Артур Конан Дойл.)
Ему, как и любому реальному сыщику, хорошо известно, что большинство преступлений против личности совершаются вследствие конфликтов между близкими и/или родственниками. «Домашние» убийства происходят чаще, чем убийства с участием посторонних лиц.
Значит, приоритет — у версии №2, а не у версии №1.
Выбрав наиболее вероятную версию, Холмс устанавливает, в общем и целом, её соответствие наблюдаемым условиям. И, не тратя время на другие, исследует (проверяет) только это предположение.
Поскольку в итоге все доказательства и улики подтвердили версию №2, она (по решению Холмса) была признана истиной и (по замыслу Конана Дойла) оказалась истиной на самом деле.
Шаблонное мышление Холмса можно описать также в терминах бинарной логики.
После того, как сыщик с Бейкер-стрит в уме ранжирует гипотезы и оставляет самую вероятную, он создает бинарную оппозицию элементов: «да» и «нет». Получаются пары: «„домашнее“ убийство» и «не „домашнее“ убийство»; «домочадцы» и «не домочадцы».
Далее, в соответствие с правилами Буля, надо произвести «логическое умножение». Получается истинное высказывание или основная версия: «Домашние» убийства совершаются домочадцами.
Ложные высказывания, т.е. другие версии (не «домашние» убийства совершаются домочадцами; «домашние» убийства совершаются не домочадцами; не «домашние» убийства совершаются не домочадцами), отбрасываются. (Заметим, что одно из этих ложных высказываний — «„домашние“ убийства совершаются не домочадцами» — по содержанию включает в себя версию, которую исследуют полицейские: «Бандиты совершают „домашние“ убийства». )
Выбранная Холмсом основная версия мысленно подкрепляется статистическим анализом (вероятность, стремящаяся к 100%), поэтому оговорка «чаще всего» в дедуктивной/бинарной логике устраняется.
Это необходимо для дальнейших вычислений, чтобы произвести «логическое сложение» основной версии с результатами исследования — уликами и свидетельствами. Которые тоже подчинены бинарной логике: «подтверждает основную версию» или «не подтверждает основную версию».
По сюжету рассказа общий баланс оказался в пользу «подтверждает», так что первоначальная гипотеза сыщика стала истиной.
Таким образом, Шерлок Холмс — дедуктивный автомат, перерабатывающий оформленные в бинарных оппозициях данные.
Приведенный пример абдуктивного рассуждения для расследования убийства в Эбби-Грейндж, на первый взгляд, выглядит громоздко в сравнении с методом Холмса.
Пусть вас это не смущает.
Не будем забывать, что речь идёт о художественном произведении. В то время как действительность полна нюансов и оттенков.
Реальные детективы начали бы с того же, что и Шерлок Холмс — исследовали бы наиболее вероятную в данных обстоятельствах версию. Но параллельно изучались бы и другие гипотезы (отсюда — это неуверенное «чаще всего»). Которые могли быть проверены как индуктивно, так и дедуктивно.
Однако, если б убийство в Эбби-Грейндж было совершено не домочадцами и не бандитами (т.е. произошёл нетипичный случай), реальные сыщики продолжили бы расследование и, рано или поздно, преуспели. А, вот, знаменитый детектив растерялся бы. Ведь тогда пришлось генерировать новые гипотезы: воображать, фантазировать. Чего он явно делать не любил.
Всё, что мы сказали о приёмах логического рассуждения, обобщено в таблице 6.
Мендель применил бинарную логику для подходящего в данном случае объекта: общая закономерность в передаче между поколениями основного и альтернативного признака. Бинарная кодировка действительно многое объясняет в механизме генетического наследования.
Холмс использовал бинарную логику для объяснения сложных объектов. Таких, как мотивы и поступки людей. В выдуманных литературных сюжетах это работает, а в реальной жизни нет. Что, судя по всему, отлично понимал и сам Конан Дойл, которому его персонаж довольно быстро наскучил.
Поэтому Грегор Мендель — умница, а Шерлок Холмс — тупица.
Computor и Computer
Несмотря на то, что на рубеже XIX и XX столетий научный авторитет механической парадигмы оставался на очень высоком уровне, идея вычисляемой дискретности постепенно и неотступно завоевывала своё место под солнцем.
Биологи «вдруг» обнаружили, что в описанных Грегором Менделем закономерностях есть полезный смысл, а образованная публика зачитывалась историями о приключениях Шерлока Холмса.
В физике, как мы обсуждали в предыдущей главе, одна за другой стали появляться корпускулярные модели атома; а Эйнштейн объяснил фотоэффект, исходя из дискретной природы света.
В математике у новой парадигмы была своя история.
Джордж Буль, попытавшись облечь законы мышления в математическую форму, указал на возможность вывода аксиом — общих истин, на которые впоследствии можно опереться при построении цепочки доказательств.
В подглаве о бинарной логике мы обозначили одну из таких аксиом: закон снятия двойного отрицания. В математике этот закон преобразуется в порядок доказательств, известный как «доказательство от противного».
Например, требуется доказать, что 17 — нечётное число.
Допустим, что 17 — чётное число (отрицание). По определению чётных чисел, 17 должно делиться на 2 без остатка. Выполнив деление, получаем остаток. Значит, 17 не является чётным числом (отрицание отрицания) и является нечётным числом (снятие двойного отрицания = истина).
На самом деле, конечно, нечётность числа 17 следует из его определения: доказательство от противного кажется лишним. Но тут важно зафиксировать, как работают аксиомы в математике и в логике. Иногда, для более сложных случаев, удобнее идти в обход.
Математик Георг Кантор в 1891 году предложил первую версию теории множеств. Об этой теории мы поговорим подробнее в главе 6. А здесь укажем на некоторые её особенности в связи с бинарной логикой.
Вообще для бинарной логики существует простейшее множество {0; 1}, в котором всего два элемента: 0 и 1. Из этого множества можно построить четыре бинарные последовательности: 1,1; 0,1; 1,0; 0,0.
В теории множеств последовательность элементов и их значение не играет никакой роли. Например, множества {0; 1} и {1; 0} равны (эквивалентны).
В логике и в генетике, как мы убедились, это не так. Важно не только сочетание элементов, но и смысл, который мы им присваиваем (например, «1» может быть «истиной» или «рецессивным признаком»).
Однако важнейшее достоинство теории множеств состоит в её универсальности.
Множества могут быть любыми: конечными, как {0; 1}, и бесконечными — если, например, взять ряд натуральных чисел. Из этого, более мощного, множества можно построить те же четыре бинарные последовательности.
Следовательно, одни множества являются подмножествами других множеств: более мощных, конечных и бесконечных. Тогда, например, все возможные логические высказывания есть подмножество всех высказываний на данном языке, а все гены человека — подмножество всех генов человечества.
Некоторые математики были настолько очарованы теорией множеств, что посчитали возможным создать универсальную аксиоматическую математику (и логику заодно). Их назвали «формалистами».
К ним принадлежал, например, великий математик Давид Гильберт, попытавшийся обосновать тезис о существовании в математике абсолютных истин и/или аксиом. Если б замысел Гильберта удался, то вывод математических теорем в наши дни стал бы рутинным заданием в младшей школе.
С формальным подходом не согласились «интуиционисты», посчитавшие абстракции вроде бесконечных множеств бесполезными развлечениями и требовавшие конструирования цепочек непротиворечивых доказательств любых математических объектов.
Такой взгляд, в частности, выражал другой величайший математик — Анри Пуанкаре. Начальной точкой рассуждений он признавал догадку. Которая выносилась на суд коллег-учёных и, если они с ней соглашались, становилась конвенцией. Само собой, что конвенция никакой абсолютной истиной не является (это результат договорённости, подобно тому, как Джордж Буль предлагал прежде всякого исследования определить, что считать фактом). Но это несущественно, так как догадка в любом случае будет подвергнута проверке.
Таким образом, у формалистов закон снятия двойного отрицания и доказательство от противного считались аксиомами, а у интуиционистов не считались таковыми.
Условно говоря: спорили о том, можно или нельзя при разборе классического силлогизма опровергнуть/вычислить высказывание «Все не люди не смертны». При том, что «Все люди смертны» — истина.
Или: число 17 — нечётное по определению (мы договорились считать его таковым), или оно нечётное, потому что это можно доказать от противного (принимаем закон снятия двойного отрицания как абсолютную истину).
Дискуссия заставила математиков задуматься над более серьёзной проблемой: говоря о вычислимой или невычислимой истине, что мы подразумеваем под вычислением?
Состоит ли математика в действительности из дискретных кусочков-высказываний, которые мы комбинируем в разнообразные аксиомы и теоремы?
Или, скажем, под законом снятия двойного отрицания есть более фундаментальный, логический или математический, закон?
В 1931 году математический вундеркинд Курт Гёдель обнародовал свою знаменитую «теорему о неполноте арифметики».
Её следствия, в общем и целом, дали ответы на сформулированные выше вопросы. А эти ответы, в свою очередь, обеспечили неизбежность создание главного символа цифровой парадигмы — компьютера.
Существует несколько формулировок теоремы Гёделя. Ещё больше — изложений её доказательства. И совсем много — её следствий.
Ограничимся кратким пересказом, основанным на анализе теоремы выдающимся математиком Юрием Маниным (подробности см. в его работах11).
Формулируется теорема так: «Полного финитно описываемого набора аксиом в арифметике не существует».
Это утверждение можно выразить иначе, на более привычном языке.
Например:
Можно построить логически непротиворечивую теорию, но нельзя доказать её истинность.
Тогда такое следствие:
Какими бы логичными ни казались, скажем, концепция души или рефлекторная теория мозга, нельзя сформулировать аргументы в пользу того, что они неопровержимо верны.
Или такая формулировка теоремы:
Выразить полностью какую-либо сложную научную теорию при помощи средств любого естественного языка невозможно.
И её следствие:
Если вы не разбираетесь в математике и не собираетесь этого делать, то в случае создания новой научной теории (например, Теории Всего) вы её никогда не поймёте.
Чтобы пояснить, почему формулировка и следствия теоремы Гёделя, выходят так далеко за пределы арифметики, разберёмся с терминами.
Все высказывания (как в математике, так и в любом естественном языке) могут быть неопределёнными и определёнными. О первых сказать, ложны они или истинны, нельзя. О вторых — можно.
Некоторой аналогией тут служит различие между открытыми и закрытыми вопросами. Если вам задают открытый вопрос (начинается с «как», «что такое», «почему» и т.п.), вы не можете содержательно и определённо ответить, сказав «да» или «нет». Однако при ответе на закрытый вопрос («так ли это?», «это случилось там-то?» и т.д.) только эти два варианта имеют смысл.
Таким образом, Гёдель заключил, что все аксиомы в математике — это определённые истинные высказывания (мы назовём их «первичными истинами»). А все, следующие из них высказывания, выраженные на каком-либо естественном языке, — определённые и истинные тоже («вторичные истины»).
Тогда формируются два множества: все «первичные истины» (множество с числом элементов n) и все «вторичные истины» (множество с числом элементов m).
Сформулированный Гёделем вопрос заключается в следующем: можно ли — всегда и во всех случаях — из «вторичной истины» вывести «первичную истину»?
Или так: содержатся ли в наших естественных языках уже все аксиомы, которые мы ещё не успели описать на языке математики?
Короче: существует ли такая формула (способ, правило), которая всегда выводит n из m?
И совсем коротко: n = m?
Курт Гёдель использовал доказательство от обратного и начал с предположения, что n = m. Примерная схема рассуждений представлена на рисунке 10.
Получилось, что всегда и строго n> m.
Итак, Гёдель доказал, что абсолютных, сформулированных людьми, истин не существует: ни в математике, ни, тем более, в естественных языках (интуиционисты удовлетворенно кивнули).
Вместе с тем, он ясно показал, что существует некий, возможно, универсальный процесс создания аксиом — как в математике, так и в естественных языках (формалисты продолжили верить).
Этот универсальный процесс создания аксиом — не что иное, как вычисление. (Джордж Буль думал также, однако именно Гёдель в подтверждение тезиса привел весомые аргументы.)
При этом вычисление может производиться любым, имеющим к этому процессу подходящие инструменты, созданием. В том числе — искусственным устройством.
Через пять лет после появления теоремы о неполноте арифметики Алан Тьюринг опубликовал статью, в которой описал то, что сейчас мы называем компьютером.
Нужно иметь в виду, что представленная в этой работе математическая метафора, «машина Тьюринга», не только и не столько абстрактная модель механического вычислительного устройства.
Это, прежде всего, модель вычислений, производимых человеком. В самом начале статьи читаем: «Мы можем сравнить человека в процессе вычисления (in the process of computing) какого-либо действительного числа с машиной, которая ограничена конечным числом состояний…». 63
Тьюринг математически описал биологического вычислителя (англ. computor). Точнее: детально изложил процесс арифметических вычислений так, как, по его мнению, это происходит, в общем, у обычного человека, взявшего в руки тетрадку в клеточку и карандаш для решения какой-либо задачки.
Человек вписывает в клеточки начальные символы или цифры; глядя на текущую клеточку, производит в уме элементарную операцию по их преобразованию (складывает, вычитает, умножает, делит); записывает полученный результат в соседнюю клеточку; продолжает последовательное вычисление в соответствие с порядком, который сам же наметил.
Иными словами, он, как сказал бы Гёдель, переводит первоначальное неопределённое высказывание в определённое, затем — в другое определённое и т. д.
Если в качестве символьной системы для записи в клеточки выбрать бинарный код, а в качестве набора управляющих операций — бинарную логику, то получится общая схема вычислений. Получится механический computer, имитирующий язык и логику живого computor.
Как мы обсуждали в начале главы, Алан Тьюринг не считал, что computer может полностью заменить computor. Здесь поясним это утверждение более обстоятельно.
Дело в том, что механический вычислитель не способен имитировать произвольное построение порядка вычислений. Он не создаёт алгоритм сам. Ему всегда требуется образец.
В какой последовательности применять бинарную логику к бинарным символам решает тот, кто вписывает символы в клеточки. Или даёт указания, как это делать: составляет программу машинных действий, даёт искусственному вычислителю образцы алгоритмов.
Это человек.
Заметим, что это прямое следствие теоремы Гёделя.
Применяя строгие механические формулы, которые ссылаются только на себя, истинно-определённое не выводится (или, по Тьюрингу, не вычисляется). Индуктивная проверка есть не универсальный, а специальный инструмент. Не фундаментальный закон, а технология.
Припомним: следуя бинарной логике Буля, мы избежали сомнительного удовольствия ковыряться в противоречивых смыслах, спрятанных в высказывании «Все не люди не смертны». Как нам это удалось? Мы действовали по алгоритму: вычитание — умножение — сложение. Только такой порядок обеспечил определённый и осмысленный результат.
Если б мы нарушили последовательность или, не дай бог, принялись бы, подобно средневековым схоластам, резонерствовать на тему «кто такие „не люди“?», «что такое смерть?», «что такое жизнь?» и т.п., нам пришлось бы, чтобы прийти к согласию, провести бесконечное число наблюдений.
Но, даже если б мы сделали это, хотя бы в уме, и пришли к некой, абсолютной, истине, которая бы воспринималась нами как полный и окончательный ответ, разъясняющий суть этих понятий, то через некоторое время пришлось бы снова взяться за уточнение — ввязаться в новый диспут.
Ведь, как показал Гёдель, всегда остаётся вероятность, что такие сложные и многозначные понятия, как, например, «люди» и «жизнь», могут дополниться новыми фактами и смыслами. И определить/вычислить их до конца не удастся никогда.
Раз так, то и машина Тьюринга не может этого сделать.
Точнее: она будет это делать, т.к., хоть эти высказывания (числа, функции, задачи) и невычислимы, тем не менее, они вполне реальны. С ними можно производить арифметические операции.
Однако машина Тьюринга будет вычислить их неограниченное время — гораздо дольше, чем Думатель из романа Дугласа Адамса. А именно: вечность.
Вместе с тем, задачи, что машина Тьюринга за конечное время вычислить может, существуют тоже. Они — алгоритмически вычислимы.
Другое дело, что писать алгоритмы для их решения придётся человеку. Потому что и математика, и логика, и новые идеи, как показал Гёдель, суть творческая, бесконечная во времени и по глубине, деятельность.
Прояснение разницы между выводимостью аксиом и их невыводимостью, между вычислимым и невычислимым, между машинным алгоритмом и присущим человеку думанием — несомненная научная заслуга Гёделя и Тьюринга.
Их работы стали предпоследним звеном в длинной цепочке развития идеи вычисляемой дискретности в трудах Лейбница, Буля, Пирса, Кантора, Гильберта, Пуанкаре и других теоретиков.
Оставалось сделать последний шаг: попытаться создать computer (искусственный вычислитель) и computor (живой вычислитель) на практике.
«Так выпьем же за кибернетиков!»
В 1966 году в советском комедийном фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница» один из героев произнёс примечательный тост. Он поведал трагическую историю некой принцессы, которая умерла, «потому что совершенно точно сосчитала, сколько зёрен в мешке, сколько капель в море и сколько звёзд на небе». Тост завершался призывом «выпить за кибернетиков!».
В том же году в популярном британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» впервые появились такие персонажи, как «Киберлюди» (англ. Cybermen). По сюжету эпизода, снятого режиссёром Дереком Мартинусом, это роботизированные, лишенные эмоций существа, которые хотят покорить Землю и превратить её жителей в кибернетические механизмы.
Кто такие кибернетики? И зачем Киберлюдям понадобилось покорять Землю?
Кибернетика — наука, сама себя называвшая «междисциплинарной научной дисциплиной», где сложные объекты и системы, включая человеческий разум, трактуются как вычислительные устройства.
Формально годом её рождения считается 1948.
Именно тогда появилось известное сочинение Норберта Винера «Кибернетика: Или Контроль и Коммуникация у Животных и Машин» (далее — просто «Кибернетика»).
Однако фактически работы, посвященные рассмотрению сложных систем как природных саморегулирующихся автоматов, за авторством Джона фон Неймана, самого Винера и других исследователей, публиковались с 1943 года.57
Кратко обозначим контекст появления кибернетики.
После окончания Второй мировой войны в глазах общественности механическая парадигма оказалась чрезвычайно скомпрометированной.
Всем стало ясно, что от представлений о государствах-машинах, людях-машинах и прочих спекуляций в духе «социальных механизмов» надо отказываться.
Такие взгляды практически всюду были признаны доктринами, мягко говоря, неточно описывающими реальность.
На научном поприще механическая парадигма была плавно вытеснена цифровой парадигмой ещё раньше: фактически к началу 1930х гг.
В физике, к тому же, состоялось рождение группы ещё более сложных концепций, главной из которых стала квантовая механика.
Таким образом, все три крупных научных парадигмы, созданных людьми, в определённый момент времени сосуществовали как равноправные мейнстримные доктрины. Это сформировало уникальную атмосферу интересных научных дискуссий, в которые мы сейчас вникать не станем.
Физики одновременно радовались новым концепциям и не очень понимали, как их применять. Достаточно упомянуть, что великий Эйнштейн, создав теорию относительности, сбросил с пьедестала научного мейнстрима одну парадигму (механическую); используя понятие «квант» для объяснения фотоэффекта, утвердил другую парадигму (цифровую); активно критикуя исходную версию квантовой теории, в частности, соорудив с коллегами-физиками т.н. «парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена», крайне подозрительно относился к третьей, новорождённой, парадигме (квантовой).
В биологии уже вовсю заправляли генетики. Славили Дарвина, Менделя.
Однако дискретные факторы наследственности, «гены», до поры до времени оставались гипотетическими объектами. Некоторые учёные, в связи с этим, даже склонялись в пользу более ранней теории биологической эволюции, ламаркизму.
После 1944 года все сомнения в правильности генной концепции исчезли: биологи Освальд Эвери, Колин Маклауд и Маклин Маккарти обнаружили молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Наконец, огромное значение для утверждения цифровой парадигмы имела практическая реализация математических идей Алана Тьюринга. Конструкторы взялись за сооружение первых цифровых компьютеров.
В 1941 году Конрад Цузе создал электромеханический вычислитель, а в конце 1945 года группа инженеров под руководством Джона Эккерта-мл. и Джона Моучли — уже в полном смысле электронное цифровое устройство, «ENIAC». 22
Дошла очередь и до живого мозга.
Отцами вычислительной модели следует считать математиков Джона фон Неймана и Норберта Винера.
Хотя без помощи специалистов (учёных-нейрофизиологов и даже просто врачей) не обошлось, основной вклад в модель «мозг-компьютер» принадлежит, конечно, им.
Об сложной коллаборации биологов и математиков свидетельствовал сам Винер.
В «Кибернетике» он рассказал о совещании, проходившем в начале 1944 года в знаменитом Принстонском Институте Перспективных Исследований, где «физиологи сделали совместное изложение задач кибернетики с их точки зрения, аналогичным образом конструкторы вычислительных машин изложили свои цели и методы». Среди «конструкторов вычислительных машин», т.е. математиков, Винер упоминал себя и Джона фон Неймана.4
Джон фон Нейман — крупнейший учёный XX века.
Он оставил значительный след в физике: ему принадлежит строгая формулировка принципа неопределённости — базового тезиса квантовой теории.
Как активный участник Манхэттенского проекта, внёс существенный вклад в развитие атомной физики. Ставшей обширным полем научно-прикладной проработки идеи вычисляемой дискретности.
В дискуссии об основаниях математики фон Нейман принадлежал к лагерю «формалистов»: в ряде работ пытался обосновать точку зрения Гильберта о существовании абсолютных аксиом. Однако после фундаментальных результатов, полученных Гёделем и Тьюрингом, этот спор потерял смысл, и учёный быстро переключился на решение прикладных задач в теории алгоритмов.
Заслуживает упоминания книга Джона фон Неймана (в соавторстве с экономистом Оскаром Моргенштерном) «Теория игр и экономическое поведение» (1944 год), где впервые экономический успех рассматривался как результат применения алгоритма.49
А также — его совместные с математиком Станиславом Уламом (тоже участником Манхэттенского проекта) усилия по развитию интересной математической идеи, т.н. «клеточного автомата». Который, по сути, представлял собой двухмерный вариант машины Тьюринга.
Разумеется, нельзя пройти мимо того факта, что Джон фон Нейман имел самое прямое отношение к созданию компьютеров (которые изначально проектировались в качестве вспомогательных средств для сложных расчётов, требовавшихся при разработке атомного оружия).
Он внёс ряд конструктивных предложений на финальном этапе сборки «ENIAC». В содружестве с двумя другими математиками, Артуром Бёрксом и Германом Голдстайном, в 1946 году сформулировал общие принципы машинной организации (т.н. «архитектура фон Неймана», применяемая сегодня в большинстве современных компьютеров).
Среди прочего, данный тип организации постулирует использование исключительно двоичной системы исчисления и «внутренней памяти» в компьютере (т.е. и команды, и данные хранятся на одних и тех же элементах).31
То было существенным теоретическим шагом вперёд — ведь электронный цифровой компьютер вычислял в десятичной системе, а полученные данные сохранялись в виде выводимых перфолент.
Ключевая работа фон Неймана по интересующей нас теме — «Компьютер и мозг».
Где впервые, насколько можно судить, представлена научно обоснованная аналогия между вычислительным устройством и разумом.
Публикация состоялась в 1958 году, после смерти математика, но содержит материалы лекций, прочитанных им десятилетием ранее.
Наиболее важные авторские тезисы таковы:
— Бинарный язык искусственного автомата соотносится с особенностями работы нейрона, где состояние возбуждения условно может быть обозначено как «1», а состояние покоя — как «0».
— Деятельность нейрона по генерации нервного импульса (возбуждающего/тормозного) сравнима с работой переключателя-транзистора в компьютере.
— На уровне взаимодействия нейронов осуществляются базовые операции бинарной логики (вычитание, умножение, сложение), которые соответствуют командам по управлению логическими элементами в компьютере («не», «и», «или»); эти операции составляют всю необходимую базу мышления.
— В нервной системе в целом можно выделить «цифровую» и «аналоговую» составляющую. Первая представлена возбуждающими и тормозными импульсами нейронов. Вторая — выделением железистого секрета или сокращением мышц вследствие этих импульсов. При этом «цифровое» и «аналоговое» в мозге нередко перемешивается и работает параллельно.
Книга вводила систему новых образов: «искусственный автомат» — компьютер, «природный автомат» — мозг.
А также оперировала характерной терминологией: «базовый компонент системы», нервная клетка, описывалась фон Нейманом как «цифровая машина» (англ. digital machine).
Любопытно, что в обсуждаемой работе математик произвёл приблизительную оценку человеческой памяти.
По фон Нейману, ёмкость хранилища данных современных ему компьютеров составляла от 105 до 106 битов (до 125 килобайт или всего ⅛ мегабайта). А объём человеческой памяти получился у него равным около 2,8·1020 битов (35 миллионов терабайт).
Между прочим, эта оценка примерно в 35 миллиардов раз оптимистичнее, нежели та, что встречается в работах современных исследователей.
Кроме того, Джон фон Нейман попытался придать проводимой им аналогии между мозгом и компьютером более широкий контекст.
Кому, как не ему, была очевидна огромная мощь объяснительной силы идеи вычисляемой дискретности. Он, к примеру, трактовал гены как «цифровой компонент» всякой живой системы.50
Однако, сколь бы ни была революционна работа «Компьютер и мозг», «Кибернетика» её перещеголяла.
Первое, что необходимо отметить в известной книге Винера — это конструктивная критика мейнстримного представления о разуме.
Математик предложил рассматривать мозг не как изолированную систему и, тем более, не как пассивную часть среды. Которая, по мысли теоретиков машинного мозга, годится лишь на то, чтобы принимать входящие сигналы и как-то их отражать в психике.
Вместо того Винер описал круговую схему «мозг-среда», где оба компонента равноправны. В таком толковании важны обратные связи (термин был взят из техники, о чём автор добросовестно сообщил).
При этом Винер оговаривался, что эти связи сложны: они могут реализовываться как рефлексы (быстро, по нервным волокнам с миелиновой оболочкой) и через гомеостаз (медленно, по немиелинизированным путям). (Сравните это с выделенными фон Нейманом «цифровой» и «аналоговой» частями нервной системы.)
Винер обратил внимание на факт, ставший через некоторое время общим местом. О том, что тезис «один центр — одна функция», долгое время рассматриваемый поклонниками механической модели как аксиома, не соответствует действительности.
Поэтому, например, он категорически отвергал лоботомию как способ устранения локальной поломки мозга. Напомним, что идёт 1948 год — медицинский мейнстрим продолжал верить в мозг-машину и готовился вручить Нобелевскую премию изобретателю лоботомии (см. главу 3).
Наконец, для наилучшего объяснения разума математик всячески подчёркивал значение информации (подробнее об общности взглядов Норберта Винера и Клода Шеннона, создателя классической теории информации, см. в главе 6).
В рефлекторной теории Сеченова-Павлова информации отводилась второстепенная роль сложного, но, по своему происхождению, средового сигнала. По Винеру, информация в мозге не является банальной задержкой реализации рефлекса.
Математик писал: «Механический мозг не выделяет мысль, „как печень выделяет желчь“, что утверждали прежние материалисты, и не выделяет её в виде энергии, подобно мышцам. Информация есть информация, а не материя и не энергия. Тот материализм, который не признает этого, не может быть жизнеспособным в настоящее время».
Второе общее замечание касается содержательной части работы Винера. Эта часть противоречива.
С одной стороны, Норберт Винер воспроизвёл некоторые детали трёхмерной модели. Причём в его описании рефлекторная теория и классический психоанализ причудливо переплелись.
Математик ввёл понятие «аффективный тонус»: это вид обратной связи в биологических системах для усиления или ослабления условного рефлекса. Смысл тут такой, что, например, усвоение знаний во время обучения происходит эффективнее, если у обучающегося хорошее настроение, и хуже, если настроение плохое.
В другом месте автор похвалил динамическую психотерапию как раз за то, что, по его мнению, через работу с воспоминаниями этот метод ослабляет «аффективный тонус»: разрывает порочный круг невротического расстройства. Правда, почему невроз обязательно представляет собой патологический рефлекс, Винер не объяснил.
С другой стороны, математик убедительно показал, почему мозг — это компьютер.
В «Кибернетике» подробно разъяснена бинарная логика, нейроны описаны как переключатели; представлены и другие тезисы, о которых мы рассказали в обзоре книги «Компьютер и мозг» фон Неймана. Текст пестрит ссылками на коллегу — не только в связи с памятным совещанием 1944 года, но и в контексте концепции клеточного автомата (Винер называл подобные гипотетические устройства «самораспространяющимися машинами»).
Кроме того, отдаётся дань уважения великому предшественнику: «Если бы мне пришлось выбирать в анналах истории наук святого — покровителя кибернетики, то я выбрал бы Лейбница».
Примечательно то, как Винер трактовал память.
Механизм памяти в «нервной вычислительной машине» он связывал с изменением проницаемости синапсов и выделил два её вида. «Циркулирующие записи» необходимы для решения текущих задач (современная компьютерная аналогия: «оперативная память»). «Постоянные записи» обеспечиваются большим массивом нейронов (условно: «память жёсткого диска»).
Не будет преувеличением сказать, что именно Винер подал идею классификации нашей памяти на кратковременную и долговременную. Подобное разделение впервые появляется в работах психологов и нейрофизиологов только в 1950х гг.
Было бы неправдой изображать Норберта Винера оголтелым сторонником полного и безусловного отождествления живого мозга и компьютера.
Винер не дожил до эпизода сериала «Доктор Кто», где появляются Киберлюди. Но вряд ли был бы от него в восторге.
В «Кибернетике» математик всячески подчёркивал необходимость взвешенного подхода в таком сложном вопросе, как объяснение мозга.
Часто ссылаясь на физиолога и врача-кардиолога Артуро Розенблюта, свободно оперировал медицинскими фактами и отмечал, что «мозг при нормальных условиях не является полным подобием вычислительной машины».
В то же время, по мнению Винера, мозг преимущественно вычисляет. Причём вычисляет именно как компьютер.
Учёный прогнозировал постройку «искусственных машин почти со сколь угодно сложным поведением», которые будут управляться аналогом нашей центральной нервной системы — некой «сверхбыстрой вычислительной машиной».
И выражал по этому поводу опасения, увы, хорошо знакомые современному обывателю: «Ещё задолго до Нагасаки и до того, как общественности стало известно о существовании атомной бомбы, мне пришла мысль, что мы стоим перед лицом другой социальной силы, несущей неслыханные возможности для добра и для зла». 4
Так что, среди прочего, Норберта Винера можно считать ещё и зачинателем современного мифа о Великом и Могучем ИИ.
Впрочем, в «Кибернетике» и других работах Винера, где он рассматривал проблему устройства мозга, были по-настоящему ценные догадки.
Так, математик Стивен Строгац написал замечательную книгу, в которой подробно рассмотрел идею Винера о том, что ансамбли нейронов в головном мозге можно представить как популяции осцилляторов, управляющих, по крайней мере, некоторыми биологическими ритмами.
В общем, по мнению Строгаца, эта гипотеза подтвердилась, но не в отношении альфа-ритма (как предполагал автор «Кибернетики»), а для гораздо меньшего частотного диапазона.60
Таким образом, следуя идеям Винера, удалось прояснить механизм синхронизации мозга и внешней среды.
Резюмируем вычислительную модель разума в интерпретации фон Неймана-Винера (см. табл. 7):
— Мозг человека — природный (автоматический) вычислитель.
— Элементом мозга является нейрон, который работает как переключатель цифрового сигнала.
— Интеллект функционирует на базе бинарной логики, а память — как создание/извлечение записей данных.
— Главное назначение мозга — вычисление с целью поддержания равновесия в системе «мозг-среда». Гомеостатическая регуляция достигается, в том числе, при помощи обратных связей.
Со второй половины XX века у наиболее проработанных научных теорий об устройстве и работе мозга, концепции Сеченова-Павлова и учения Фрейда, появился серьёзное конкурирующее объяснение — кибернетика.
В борьбе за умы людей она была обречена на победу.
Не баг, а фича
Когда программисты или геймеры сталкиваются с некорректной работой компьютерной программы, способны отследить ошибку — вплоть до исходного кода — и устранить её так, чтобы всё снова заработало, как надо, говорят: «Это был баг».
Однако существуют такие ошибки программного кода, которые хоть и не прерывают работу системы, но накладывают на неё некий неповторимый отпечаток, вынуждающий функционировать её с постоянными сбоями.
В таком случае нет какой-то одной, конкретной, причины, и проще удалить программу целиком, чем пытаться что-то исправить. Тогда об ошибке говорят: «Это не баг, а фича».
Несомненно, что создатели кибернетики не были настолько узколобыми и тщеславными специалистами, что верили в исключительную непогрешимость своей концепции.
Но была ли кибернетика и, в частности, вычислительная модель мозга теорией, способной со временем, после устранения всех «багов», превратиться из демоверсии в самое полное и точное объяснение разума? Или в ней изначально содержалась принципиально неустранимая «фича»?
Попытаемся в этом разобраться.
Первым делом исследуем, каким образом в 1960—70х гг., когда кибернетика стала уже достоянием фольклора, люди отвечали на главные вопросы — как менялась наука и повседневная жизнь.
Мы увидим, что вопрос о мироздании и вопрос о природе бытия окончательно перешёл в компетенцию физики. Объяснение микро- и макромира стало мыслиться как общая научная проблема.
Оформилась т. н. «Стандартная модель» — общепринятое сегодня научное представление в рамках физики элементарных частиц. В её основу была положена фермионно-бозонная теория (классификация элементов бытия на «частицы вещества» и «частицы взаимодействия»).
И хотя «Стандартная модель» описывала только три из четырёх фундаментальных взаимодействий (электромагнитное, слабое, сильное), тогда, как и сейчас, предполагалось, что гравитация, объяснённая по-новому Эйнштейном, тоже суть дискретное взаимодействие. Его гипотетические акторы идентифицировались как «гравитоны».
Примечательно, что все три термина — «фермион», «бозон», «гравитон» — предложил один человек: величайший физик прошлого столетия Поль Дирак.
Вопрос о жизни был отдан на откуп генетикам и молекулярным биологам. После обнаружения молекулы ДНК в качестве универсального носителя биологической информации, исследования в этой области интенсифицировались.
В ряде публикаций в середине прошлого века биохимик Эрвин Чаргафф описал некоторые математические закономерности, касающиеся химического состава генов — т.н. «правила Чаргаффа». Что позволило молекулярным биологам, Фрэнсису Крику, Джеймсу Уотсону, Розалинд Франклин и Морису Уилкинсу, в 1953 году предложить модель двойной спирали ДНК.
Исследователи установили, что каждая нить спирали молекулы содержит множество последовательных участков различных азотистых оснований. Участок образован тремя основаниями (является триплетом). Учёные решили, что триплет и есть собственно «ген»: запись о той или иной аминокислоте. Из аминокислот состоят белки — обязательный компонент существования не только человека, но и всякого живого существа.
Так, воззрения Дарвина и Менделя из разряда спорных эмпирических описаний перешли в класс общепринятых научных объяснений. На следующие полсотни лет навязчивой целью биологии сделалась расшифровка дискретного языка органической природы — генетического кода.
Физика и биология уже не могли обходиться без математики.
Первая версия теории множеств, предложенная Кантором, была доведена до тщательно проработанного математического инструмента, который, как и надеялся Гильберт, превратился в универсальный язык науки.
Этим языком теперь описывалась бинарная логика, классы сложности в теории алгоритмов, группы, матрицы, а также новорождённая теория информации (пионерская работа Клода Шеннона появилась в том же, 1948, году, что и посвященные кибернетике труды фон Неймана и Винера). Последняя послужила основой для бурного развития технических средств связи: информационный обмен ускорился на порядки.
Теория вероятностей теперь тоже описывалась через множества. Научные эксперименты, осуществляемые физиками и биологами, определяли факты в соответствие с вероятностным толкованием истины — ровно так, как предлагал Джордж Буль. Например, вычислительным фундаментом метода хроматографии, примененного Чаргаффом для выявления точного соотношения различных азотистых оснований в молекуле ДНК, послужила именно теория вероятностей.
Образовался целый пласт специальных дисциплин, объединённых понятием «дискретная математика».
Сюда относилась, например, т.н. «конструктивная математика», которую активно развивал учёный Андрей Марков. В некотором смысле конструктивная математика была интеллектуальным наследием интуиционистов. Но в немалой степени отражала и модные кибернетические веяния.
Из конструктивной математики выросла мощная прикладная область — теория автоматического управления (ТАУ). Её влияние заметно и сейчас во многих отраслях промышленности, где описание сложных искусственных объектов (автопилотов, навигационных систем, технологических циклов нефтепереработки и пр.) составлено в соответствие с требованиями ТАУ.
У дискретной математики были более наглядные и, если так можно выразиться, легкомысленные приложения.
Исследователи, развивая идеи фон Неймана о клеточных автоматах, создали модели, очень похожие на живые системы.
Несмотря на то, что правила поведения (т.е. программы) таких искусственных систем были просты, формировались сложные, не всегда предсказуемые траектории их эволюции. В условиях непрерывных вычислений и постоянной ресурсной базы, они могли, казалось, жить вечно.
Среди популярных клеточных автоматов следует упомянуть такие модели, как игра «Жизнь» Джона Конвея (1970 год), «черви Патерсона» (1971), «муравей Лэнгтона» (1986).
Играть в «Жизнь» или наблюдать за забавными приключениями цифровой живности стало возможным благодаря распространению техники нового типа: в 1960х гг. появились первые массовые компьютеры.
Ещё в 1956 году физики Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин были удостоены Нобелевской премии «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта».
Через восемь лет IBM применила этот эффект на практике. Компания приступила к массовому выпуску персональных вычислительных устройств, где вместо громоздких электронных ламп и электромеханических реле в качестве переключателей применялись транзисторы.
В 1969 году Конрад Цузе — тот самый инженер, что сконструировал первый в мире цифровой компьютер — опубликовал книгу «Вычисляемый космос».
Где выдвинул предположение, что физические законы дискретны по своей природе, и что вся Вселенная, представляет собой гигантский клеточный автомат.69
То была первая популярная книга из области, называемой сейчас «цифровой физикой».
Легко заключить, что в обстановке всеобщей, научной и общественной, поддержки новой парадигмы для популяризации и дальнейшей разработки кибернетических идей сформировалась самая благоприятная почва.
Как некогда все повторяли, словно магические заклинания, — «машина», «механизм», «сигнал», «рефлекс», «реакция» и пр. — теперь отовсюду неслось: «обратные связи», «циклические системы», «гомеостаз», «программа», «автоматика», «вычисления» и, конечно же, «компьютер».
Идея вычисляемой дискретности торжествовала. И с нею — плоть от плоти её дитя, кибернетика.
Без всякой степени сомнения, что была свойственна Тьюрингу, отцы кибернетики утверждали: мозг есть компьютер.
Вслед за математиками к этой идее стали склоняться специалисты. Нейрофизиологи, нейробиологи, неврологи, психиатры обнаружили, что теория о «мозге-компьютере» много чего объясняет и хорошо согласуется с новыми фактами.
Поначалу в таком подходе обнаружилось немало пользы.
В 1952 году нейрофизиологи Алан Ходжкин и Эндрю Хаксли, пользуясь данными экспериментов на гигантских кальмарах, предложили модель возникновения и распространения электрического импульса в нейронах.41 (Моллюски были удобным материалом для исследований, поскольку их нервные клетки обладают отростками с подходящими для введения электродов размерами.)
В 1961—62 гг. другими специалистами был разработан упрощённый вариант модели Ходжкина-Хаксли — т.н. «модель ФитцХью-Нагумо». 38,48
Модель Ходжкина-Хаксли описывала механизм «включения/выключения» нейрона как посредника в эстафетной передаче сигнала. Авторы модели, удостоенные Нобелевской премии по медицине, по сути, детализировали и воплотили в эксперименте теоретическое положение математической концепции фон Неймана-Винера, уподобляющей нервную клетку переключателю в компьютере.
А модель ФитцХью-Нагумо и вовсе является строгим математическим описанием «цифро-аналоговой» метафоры человеческого мозга из книги Джона фон Неймана «Компьютер и мозг».
Во второй половине XX века для оценки важнейшей функции мозга утвердился и быстро набирал популярность новый метод — тест Векслера (тот самый, что измеряет IQ).
Теперь интеллект определяли не на глазок, а точным и беспристрастным инструментом. Вычисление IQ получило широкое распространение не только в медицине, но и в немедицинской практике: социологии, образовании, оценке профпригодности и др.
Психиатр Дэвид Векслер собирал базу данных для своего теста в течение десятилетий. В результате к середине XX века на большом материале измерений было найдено эмпирическое значение «нормального интеллекта» (в настоящем для взрослого человека это число составляет 70 и выше единиц).
Существенно, что тест Векслера — статистический метод. Он полностью соответствует логике вычислительного толкования разума.
Появлялось всё больше нейронаучных работ, где память разделялась на кратковременную и долговременную.
Последнюю тщательно исследовали: строились её теоретические конструкты. Ряд учёных описали феномен долговременной потенциации. Его связывали с работой нейронов гиппокампа.26,43
Постепенно складывалось представление о том, что в мозге нет единого локального центра памяти. Действует сложный нейрофизиологический механизм, сводимый к аминокислотно-пептидно-белковым перестройкам внутри нейронов, которые для случая длительного хранения информации объединяются в устойчивые ансамбли.
Например, нейрофизиолог Наталья Бехтерева (родная внучка психиатра, пытавшегося создать «рефлексологию человека», Владимира Бехтерева), писала о «матрице долгосрочной памяти». 3
Вместе с тем функционирование кратковременной памяти нередко связывали с работой отдельных мозговых центров.
Так, в 1969 году было сообщено об открытии расположенной в коре и подкорке группы нейронов, названных «детектор ошибок». Эти клетки возбуждаются при совершении какого-либо ошибочного действия, которое не фиксируется сознанием в данный момент и проявляется ощущением «что-то забыл». 25
И хотя Норберт Винер отвергал идею узкой морфологической локализации сложных мозговых функций, нельзя не отметить, что воззрения нейроучёных на устройство памяти всё чаще походили на рассуждения автора «Кибернетики» (характерно в этой связи, что «постоянные» записи в мозге, по предположению математика, поддерживались механизмом долговременной проницаемости синапсов).
Передовые нейрофизиологи стали смотреть на мозговые процессы как на круговые/циркулирующие, которые связывают внутренний гомеостаз и внешнюю среду в единую систему.
Принцип функциональной системы применительно к мозгу был подробно раскрыт в работах психолога Александра Лурии и, особенно, в трудах академика Петра Анохина.
Ими описывались три основных звена системы: блок приёма и переработки информации (например, сетчатка глаза); блок модулирования (зрительная кора); блок программированного ответа и контроля исполнения команды (движение мышц).
При этом физиолог Анохин особо останавливался на двух обстоятельствах.
Во-первых, постулировал наличие обратной связи между вторым и третьим звеном (например, из мышцы поступает информация об исполнении команды в зрительную кору, а оттуда идут нисходящие корректирующие сигналы обратно к мышце).
Во-вторых, по мнению учёного, функциональной системой считается только такая, в которой работа её элементов приводит к какому-то полезному результату (т.н. «системообразующий фактор»). Если полезный результат отсутствует, то функциональной системы не существует.10
Излишне напоминать, что на живые системы вообще и на мозг в частности кибернетика смотрела так же.
А, вот, скажем, видный в 1960х гг. психиатр Уильям Грей Уолтер и вовсе считал наш разум подобным аналоговому компьютеру.
Примечательно, что Уолтер также был известен страстью к конструированию автоматов: некоторые исследователи называют его роботехником.
В 1953 году учёный опубликовал книгу «Живущий мозг», где описывал способы электрического стимулирования мозга для получения различных зрительных ощущений. Автор недвусмысленно намекал на возможность программирования человеческого разума.65
Для многих нейроучёных модель «мозг-компьютер» стала неоспоримой истиной.
Это закономерно? Или это удивительно?
Ведь некоторые из них были прямыми научными (а, в ряде случаев, биологическими — как, например, Наталья Бехтерева) наследниками специалистов-натуралистов, создававших и воспевавших модель «мозг-машина».
Александр Лурия — ученик и коллега Льва Выготского, Пётр Анохин — ученик Ивана Павлова, Уильям Грей Уолтер в молодости стажировался у нейрофизиолога Ханса Бергера, одного из изобретателей электроэнцефалографии.
Но, похоже, это никого не смущало.
Специалисты были готовы не только принять кибернетическую трактовку разума, но и шагнуть дальше — в мир субъективных феноменов мозга, что было немыслимо в эпоху расцвета механической модели.
Наталья Бехтерева вспоминала: «Даже попытки расшифровки кода обеспечения мышления, вполне материалистические, как теперь признают и оппоненты, встретили поначалу штыки „материалистов“, идея которых сводилась к тому, что нельзя узнать код идеального. Но ведь мы искали код материальной базы идеального, что далеко не одно и то же. И всё-таки — что такое идеальное? Что такое мысль? Получается, с точки зрения материалистов, — ничто. Но ведь она есть! Я думаю, приспело время хотя бы поставить вопросы, на которые сегодня трудно или даже невозможно найти ответ, для будущего нашей науки. И первый вопрос — я его снова и снова повторяю, — что такое идеальное, что такое мысль? [курсив авторский — Р.Б.]». 3
Нам легко вообразить энтузиазм нейроучёных, который охватил их в связи с новой, вычислительной, моделью мозга.
То же самое происходит в наши дни. Правда, сегодня этим энтузиазмом заражены неспециалисты: обыватели, журналисты, учёные-гуманитарии, политики и прочие «говорящие головы». Современные специалисты скептически оценивают представление «мозг-компьютер».
Отчего же тогда, в 1960—70е гг., было иначе? Неужто в вычислительной модели не обнаруживалось не только никакой «фичи», но и сколь-нибудь заметных «багов»? Кибернетическое объяснение мозга было идеальным?
Нет.
Просто оно было новым.
В кибернетике — во всяком случае, в описании живого мозга — содержались крупные ошибки. Некоторые стали ясны сразу, другие выявились позднее.
У нейроучёных не было ни единого шанса их заметить. Большинство специалистов следовало за научным мейнстримом. Не разбираясь в математике и физике, они принялись осваивать новое объяснение, предоставленное им фундаментальной наукой.
Так, в чём же состоит «фича» вычислительной модели мозга?
Во-первых, Джон фон Нейман и Норберт Винер, опираясь, между прочим, на тогдашние воззрения нейроучёных, полагали, что возбуждение нейрона осуществляется по закону «всё или ничего».
Т.е. постулировалось существование некоего порогового значения мембранного потенциала, лишь по достижении которого происходит возбуждение.
Поэтому «нерв можно уподобить реле с двумя существенными состояниями активности: возбуждением и покоем». 4
Прошло время, и выяснилось, что это не так.
У некоторых нейронов даже на раздражители подпороговой силы возникает локальный ответ — местное возбуждение нервной клетки.1
Следовательно, закон «всё или ничего» не абсолютен, а бинарная модель к работе нервной системы, по крайней мере, в ряде случаев, не применима.
Во-вторых, Винер предполагал, что структура мозга со временем не меняется: после рождения нервные клетки не образуются (популярный вариант этого мифа: «нервные клетки не восстанавливаются»).
Если б дело обстояло так, то для сравнения мозга с компьютером было бы больше оснований. И тогда процесс угасания ментальной активности легко сопоставляется с износом вычислительного «железа».
Современные исследования показывают, что формирование новых клеток в мозге в течение жизни (нейрогенез) всё-таки происходит.
Некоторые учёные находят его следы во взрослом мозге,37 другие — признают нейрогенез только у детей.58 Впрочем, утверждается, что даже «старые» нейроны способны перестраивать связи так, что создаются новые коммуникационные сети.
Разумеется, никакой компьютер так не умеет.
В-третьих, отказавшись от тезиса о локализованных центрах, детерминирующих сложные когнитивные функции (память и интеллект), Винер логично предположил, что, скажем, в случае шизофрении имеет место нарушение «циркулирующих записей» в мозге.
В связи с этим важно разорвать порочный круг патологических связей возбужденных нейронов: необходимо шоковое воздействие на синапсы.
Поэтому математик критиковал лоботомию, но благожелательно отзывался об электросудорожной терапии.
Отметим, что вся вторая половина прошлого столетия в психофармакологии считается «эрой нейролептиков».
Это препараты, блокирующие ту самую «проницаемость синапсов», о которой писал Винер. Они препятствуют накоплению нейромедиаторов в определённых областях мозга, в том числе, при шизофрении (подробнее — см. главу 7). Увы, это не помогает полному излечению.
Значит, предположение о циркулирующих нейронных импульсах, как о базовом механизме функционирования, как здорового, так и больного мозга, не соответствует действительности.
В-четвёртых, отцы кибернетики изначально пытались «склеить» механическую и вычислительную модель, оперируя сомнительными фактами.
Например, Норберт Винер ретранслировал набиравший тогда популярность миф о функциональной асимметрии больших полушарий.
Математик писал, что «функции головного мозга распределены неравномерно между двумя полушариями, и одно из них — преобладающее — сосредоточивает львиную долю высших функций». 4
Это могло служить косвенным указанием на особую архитектуру мозга, схожую с компьютером, и, в то же время, демонстрировало жёсткую, как в механической системе, связь между структурным элементом и его функцией.
Если обратиться к современным дискуссиям о том, представляет ли собой каждое полушарие морфологическую основу для отдельного «сознания» или даже для отдельной личности, мы увидим, что убедительнее выглядят противники этой идеи.54,64
Во всяком случае, вульгаризированное утверждение «левое полушарие отвечает за логику, правое — за творчество» уже определённо не является научным фактом.
Любопытно, что ещё в 1964 году появились откровенные сомнения в способности кибернетики исчерпывающе объяснить разум.
Не нейрофизиолог, не психиатр, а писатель-фантаст и, как ни странно, убеждённый сторонник кибернетического подхода, Станислав Лем писал: «…мозговые явления, природа которых до сих пор остаётся загадкой, втискивают в корсет „физикалистской“ терминологии, которая якобы должна устранить всякую загадочность; там можно прочесть об „энтропии сознания и подсознания“, о „понятийных“ и „эмоциональных кодах“, об „эстетической информации“, там натягивают кибернетические маски на психоанализ, отождествляют творческие процессы с методом проб и ошибок, ставя знак равенства между созданиями учёных-теоретиков и шизофреников».
И далее Лем делал неутешительный для вычислительной модели прогноз: «Ясно, что подобное кибернетическое „шаманство“ не может привести ни к чему, кроме некоего смятения умов. Личности, которые на досуге измышляют „новые виды“ информации, или машины, которые „всё могут“, и даже издают книжки с обилием схем, указующих, как с инженерных позиций имитировать человеческий мозг, со спокойной совестью предаются своим радостным занятиям, потому что всем их „открытиям“ и „изобретениям“ не угрожает никакая экспериментальная проверка». 8
Спекуляции на модели «мозг-компьютер» начались почти сразу после создания теории и продолжаются до сих пор.
Так что, предсказание Станислава Лема о смятении умов, вызванным «кибернетическим шаманством», полностью сбылось.
1946—48 гг. датируются первые попытки сооружения т.н. «гомеостатов». Это сугубо кибернетическое понятие.
С точки зрения пионеров вычислительной модели мозга, всякая сложная система есть упорядоченная система; значит, сверхсложная система, к которой можно отнести наш мозг, — сверхупорядоченная система.
Внутренний порядок системы во многом характеризуется её способностью поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз — набор определённых значений медиаторов, гормонов, ионов и прочих химических веществ). Этот порядок детерминирует устойчивость системы к внешним воздействиям и, в конечном итоге, успех её адаптации.
Чем сложнее поведение системы и чем сложнее её внутреннее устройство, тем богаче и разнообразнее её гомеостаз. И тем должны быть сложнее и вариативнее связи с внешней средой для поддержания гомеостаза.
Изучив эти, прямые и обратные, связи, можно моделировать сложные природные системы. Такие, как мозг.
Так или примерно так рассуждал психиатр Уильям Эшби. Он сконструировал гомеостат — по сути, искусственный мозг согласно кибернетическим воззрениям.
Принцип работы заключался в автоматическом регулировании выходных сигналов при наличии разнообразных внешних шоков так, что бы система продолжала стабильно выполнять свою функцию.
Создатель устройства попробовал перенести опыт в медицинскую практику. Ведь если живой мозг — тоже гомеостат, то в случае каких-либо его расстройств при помощи комбинации мощных воздействий (ЛСД, гипноз, электрошок — как считал Эшби) можно привести его в норму.13
К счастью для психиатрических пациентов, внедрить процедуру, достойную занять место в одном ряду с лоботомией, врачу-изобретателю не позволили.
Представление о гомеостатах, как практических воплощениях живого мозга, сделалось популярным.
Даже обычно внимательный к псевдонаучным спекуляциям Станислав Лем всерьёз писал о «гомеостатах первого типа» (неразумные организмы) и «гомеостатах второго типа» (разумные живые системы).8
Мы вернёмся к проблеме поведения сложных систем, соотношения в них гомеостаза и связей с внешней средой, в главе 7.
Сейчас лишь заметим, что ясность в этот непростой вопрос внесла математическая теория хаоса и теория диссипативных структур (см. главу 6). А до той поры кибернетика успела хорошо прогуляться по биологическому буфету.
Идея клеточных автоматов, почерпнутая в работах Джона фон Неймана и Станислава Улама, воплотилась в спекулятивную концепцию биологов Умберто Матурана и Франсисико Варела.
Которые предложили теорию аутопоэзиса (буквально: «самопроизводство»). В ней живые организмы трактовались как операционно замкнутые системы с почти автоматической способностью к саморепликации.46
Концепция аутопоэзиса возникла при активной поддержке видного математика и кибернетика Хейнца фон Фёрстера. А другой известный учёный, физик Герман Хакен, предложил ещё один междисциплинарный подход — синергетику.
В сущности, синергетика замахнулась на создание собственного полновесного объяснения разума — т.н. «полевой теории активности мозга».
Хакен допускал наличие в мозге неких качественных состояний/переходов, управляемых одним или несколькими «параметрами порядка». Физик приводил в пример шизофрению (многим исследователям мозга это заболевание не даёт покоя), симптомы которой якобы легко отличить от нормального поведения.
Если б синергетическая схема работала, то наступление психозов можно было бы предсказывать и предотвращать.
Несмотря на некоторое рациональное зерно в толковании разума (к примеру, Хакен предлагал рассматривать мозговую динамику с позиции математической теории хаоса), в рамках данной концепции это сделать не удалось.18
Следуя синергетической канве, мы попадаем в ту же ловушку, в которой оказалась кибернетика: произвольно помещая мозговые события в рамки дискретной логики, упускаем бесконечное многообразие процессов. Сложные феномены, как здорового, так и больного мозга, остаются скрытыми за поспешными и чересчур общими аппроксимациями.
Один критик справедливо заметил, что синергетика стремилась стать не междисциплинарной, а «наддисциплинарной наукой». 9
Стоит добавить: как и её «старшая сестра», кибернетика.
Яркими примерами спекуляций на модели «мозг-компьютер» стали многочисленные исследования, сопровождавшиеся измерением IQ.
С применением теста Векслера связан широко обсуждаемый в научной литературе т.н. «эффект Флинна» (по имени исследователя, впервые его описавшего).
Феномен встречается в двух вариантах.
Выделяют «положительный эффект Флинна» (повышение среднего IQ — например, у граждан США в 1930х-1970х гг. отмечено увеличение значения на 3 единицы каждые 10 лет) 39 и «отрицательный эффект Флинна» (уменьшение среднего IQ — например, у 730 тысяч норвежских призывников, проходивших военную службу в 1970—2009 гг., отмечено снижение на 7 единиц в каждом новом поколении).29
Во избежание недоразумений заметим, что «отрицательный эффект Флинна» лишён этнического фактора. Первооткрыватель феномена показал это на обширном анализе данных об уровне IQ жителей различных государств.40
Принимая в качестве объективной и единственной характеристики уровня интеллекта данные об «отрицательном эффекте Флинна», некоторые исследователи нередко делают торопливый вывод о том, что в последние десятилетия человечество поглупело. Присовокупляя сенсационный прогноз: будет глупеть и дальше.
Однако всякий профессионал, занимающийся психодиагностикой и использующий, в числе прочих, тест Векслера, хорошо осведомлен о его недостатках.
Просто-напросто для количественной оценки интеллекта пока ничего лучше не придумано. Вместе с тем нельзя забывать, что существует немало инструментов качественной оценки интеллекта.
Не говоря уж о том, что само понятие до сих пор трактуется в науке неоднозначно.
Выше мы обсуждали слабость кибернетического подхода в описании сложных когнитивных функций: не только интеллекта, но и памяти.
Тем не менее, даже в наши дни публикуются научные статьи, где память рассматривается как совокупность «локальных и дальнодействующих цепей» (или «контуров»): точь-в-точь как у Винера.
Рассказывается, что стимуляция «контуров» при помощи электромагнитного излучения с определенной частотой приводит к улучшению «рабочей памяти» у людей в возрасте 60—76 лет в течение 50 минут после воздействия.56
Очевидно, что подобные, нестойкие и кратковременные, результаты не могут рассматриваться всерьёз. И, тем более, не служат доказательством кибернетического толкования живой памяти.
К концу прошлого столетия кибернетика мутировала в «информатику» и в «computer science». А спекуляции в духе «мозг-компьютер» вышли на новый уровень.
Во многом информатика и computer science друг друга дублировали.
При этом первая сосредоточилась на социально-гуманитарных аспектах (максимально широкая и малосодержательная терминология, описание общих принципов и методов «формирования, преобразования и распространения информации в природе и обществе» и т.п.), вторая — на технико-прикладных нюансах (главным образом, в области т.н. «машинного обучения»).
Впрочем, можно отметить вполне добросовестные попытки построить модель мозга с привлечением понятий модной «computer science» и теории информации.
Такова, например, «теория интегрированной информации» за авторством нейроучёного Джулио Тонони.
Концепция берёт начало в работах выдающегося нейробиолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине, Джералда Эдельмана.
Ещё в 1970х гг. он предположил, что нейроны не только образуются в развивающемся мозге (феномен нейрогенеза, о котором мы говорили выше, действительно имеет место), но и подвергаются отбору в конкурентной борьбе за ресурсы, в результате чего побеждают сильнейшие нейронные ансамбли (осталось неподтверждённой догадкой).
Кроме того, Эдельман полагал, что клетки мозга работают и, на более высоком уровне отбора, эволюционируют за счёт усиления повторно входящих сигналов (т.н. «возвращающая» нейронная схема).34,35
Последний тезис, чрезвычайно напоминающий рассуждения Винера о циркулирующих записях в мозге, был развит в 2000 году в совместной работе Эдельмана и Тонони «Вселенная Сознания. Как материя становится воображением». 36
И далее дополнен громоздкой математической моделью и постулатом о тождестве вычислимой интегрированной информации и сознания, что позволило Джулио Тонони сформулировать самостоятельную гипотезу.51
Пожалуй, эту модель следует назвать правнучкой кибернетики. Она не выдерживает научной критики.32
Наибольшее сомнение вызывает утверждение о существовании сознания, которое можно рассчитать, измерить и т. п. А также — применение классической математической теории информации и бинарной логики без привлечения более мощных научных концептов.
«Теория интегрированной информации», увы, попросту несовременна.
Пробужденная фон Нейманом и Винером надежда на то, что в ходе дальнейшего изучения мозг окажется похожим на компьютер, вдохновила исследователей на создание т.н. «искусственных нейросетей».
На рубеже прошлого и нашего столетий инженеры стали строчить одну за другой книжки с обязательными ссылками на модели Ходжкина-Хаксли и ФитцХью-Нагумо, а также со, ставшей уже классической, схемой «искусственного нейрона», работающего, само собой, на бинарной логике.44
Некоторые физики их поддержали. Возлагались большие надежды на развитие нейрокомпьютеров20 — т.е. того, что обычно зовётся «искусственным интеллектом».
В наши дни инженеры сооружают уже «искусственные нейросети третьего поколения».
Например, компания IBM, первой в истории приступившая к выпуску массовых компьютеров и чьё детище впервые обыграло чемпиона мира по шахматам, объявила в 2014 году о создании микрочипа TrueNorth.
Устройство, по сути, соединяет в себе концепцию искусственного интеллекта и искусственной нейросети. Общее количество транзисторов в чипе TrueNorth превышает 5,4·109, а число связей между искусственными нейронами в сети составляет более 268·106. Что сопоставимо с количеством синапсов в «чёрном ящике» на наших плечах.
В интервью главный конструктор «нейроподобного компьютера» Раджит Манохар (Rajit Manohar) заявил, что нейросеть функционирует в соответствие с тем, «как нейробиологи считают, что работает мозг».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.