
Вам — на долгую память
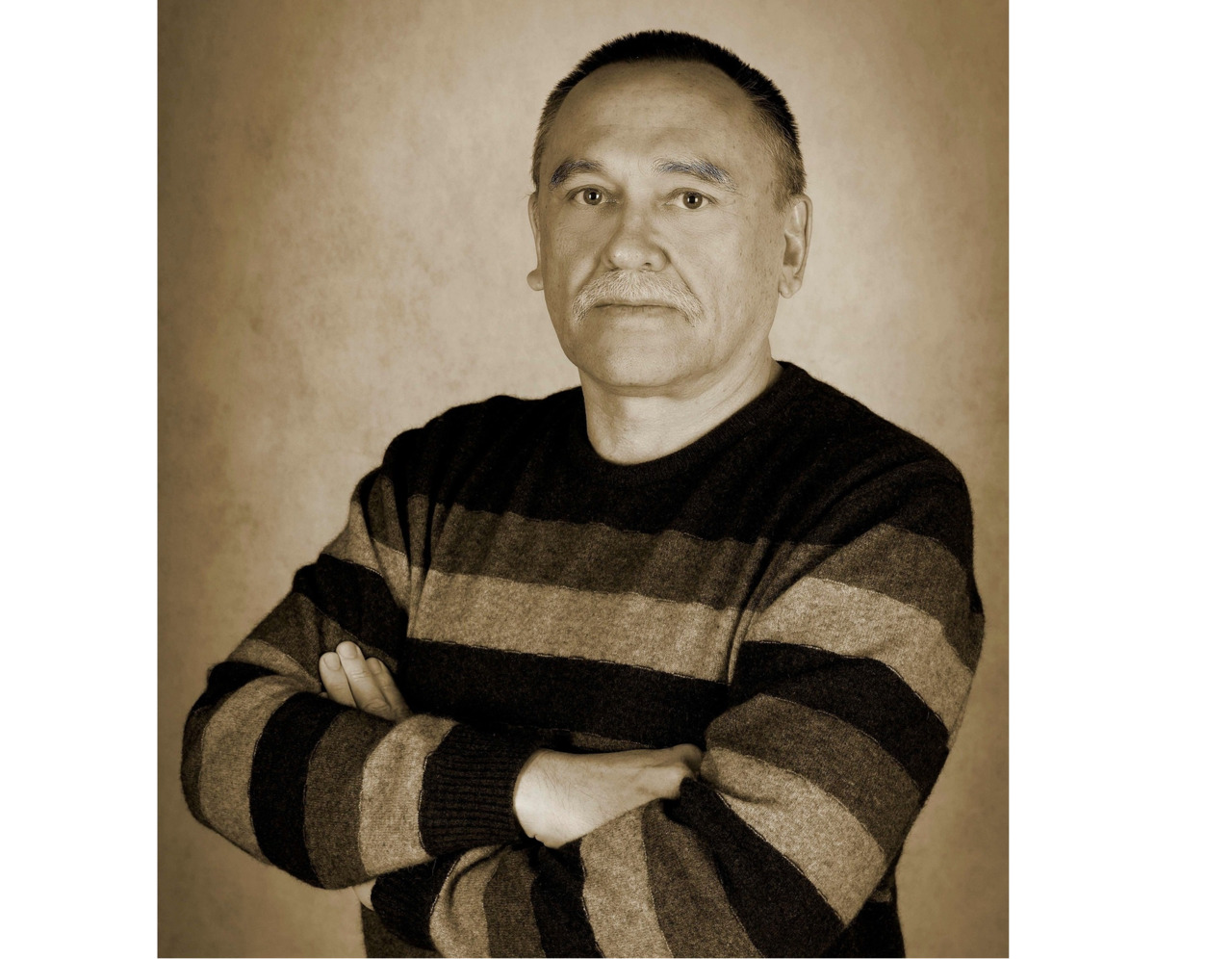
***
В джунглях мегаполиса
в поисках тропы, —
где не слышно голоса
в рокоте толпы, —
мечется взъерошенный,
хмурый человек…
Как тебя забросило
в двадцать первый век?

Тем, кто понимает
Громче всех кричат те, кому нечего сказать.
Прежде чем говорить, научить слушать и понимать других.
Поймёшь другого — поймут тебя. Но учитывай, что слышит лишь тот, кто хочет услышать. Поэтому не старайся докричаться до глухого и не мечи бисер перед свиньями.
Каждый человек — галактика. Понять другого человека, всё равно, что познать новую галактику. Понимать только себя — жить в одиночестве в целой галактике, не видя другие звёзды.
Если ты понимаешь других, то расширяешься, словно Вселенная. Если тебя понимают другие, ты становишься частью их Вселенной. Если тебя не понимают — тебя нет.
Человек, которого не понимает никто, есть фантом, чёрная дыра, поглощающая свет. Это — невидимая миру звезда.
Мысль изречённая всегда является посланием окружающему миру. Оно существует до того момента, пока находит отклик в сознании людей; примерно так же, как свет звезды блуждает много лет по просторам Вселенной, и пока он виден — звезда ещё не погасла.
Творчество есть уникальный продукт человеческого сознания, направленный, словно свет звезды, в Вечность. А уж кем он там в итоге останется, — плевком, по меткому замечанию Ф. Раневской, или звездой — решит время.
В ЗАПАСЕ — ВЕЧНОСТЬ

***
Там, далеко за холмами:
ровно рокочет прибой;
то, что осталось мечтами;
то, что не стало судьбой.
Всё, что случается с нами,
мы выбирать не вольны.
Там, далеко за холмами —
ждут нас иные миры…
Избави бог…
Яше Каплану
В запасе ещё вечность,
и вечности не жаль.
Ещё к лицу беспечность,
и бесконечна даль.
Ещё за всё мы платим,
наивные, в кредит.
И, не жалея, тратим,
и не храним обид.
И раздаём надежду, —
не ведая о том, —
как лишнюю одежду,
в надежде на «потом».
А время волны катит,
и сеет слов песок.
Всё больше тёмных пятен,
всё меньше светлых снов.
Избави бог нас, грешных,
до края наших дней
от надоевших женщин
и преданных друзей.
Мыс Харасавэй
//
Тут, на конце земли —
песчаные холмы,
халеи в брызгах волн
кричат осиротело,
а сердце холодит
дыхание зимы…
Тоскливо на душе,
и нет тоске предела.
В тумане горизонт
сливается с водой,
а небосвод висит
свинцовой пеленою.
И на краю земли,
наедине с собой
ты начинаешь жизнь
осознавать судьбою.
//
Харасавэйская мелодия —
знобящий, тягостный мотив.
Хрустит рассветная рапсодия,
стаккато хрупкое разбив.
Здесь — на пороге мироздания —
пьянит сознание простор,
и вечно длится неприкаянный
земли и неба тщетный спор.
Душа больна тоской безбрежною,
жизнь до безумия проста.
За кромкой серого песка
день расстилается над бездною.
//
Очнувшись среди
первозданного снега,
весь мир восприня́ть
чёрно-белым этюдом…
Воды ледяной
и пшеничного хлеба
испробовать вкус
и запомнить, как чудо.
Томясь притяженьем
Полярного круга,
торопится к югу
утиная стая.
А грузные волны
прибоя морского
то грозно рокочут,
то жалобно стонут.
Развесила осень
прозрачные сети
над стылым пространством
безлюдного мыса.
Теперь до весны
можно думать о смыслах,
о звёздных мирах,
Мнемози́не и Лете…
***
Я просто Костя Кривчиков.
Не знали?
Снимайте кофты.
К чёрту — лифчики!
Дышите голыми грудями!
В тугих капроновых застенках
не прячьте прелести свои.
На свете нет печальней смерти,
чем задохнуться без любви.
Пока ещё заря багрится,
и небо звёздами чудит,
пока серебряным копытцем
роса рассветная блестит,
пока я весел и заносчив,
пока вселенская кровать
даёт мне в жертвенные ночи
от мира ласки принимать.
Пока не умерли, не сгнили,
пока быльём не поросло…
Я так хочу,
чтоб вы любили,
чтоб вам всегда
в любви везло!
Не каюсь грешною душою,
что плоть моя сильней души.
И бог любви всегда со мною,
и разрешает мне — греши!
Ах, жаль мне тех, —
а их не мало, —
кто, опалённый чувств пожаром,
любви боится, как чумы.
Поэтам трусить не пристало.
И потому, подняв забрало,
я снова к вам иду на вы!
<1983>
***
На небе таяла звезда
в конце апреля.
Ты уходила навсегда,
а я — не верил.
Хмельной от счастья бытия,
я был беспечен.
Но ты, тирадами звеня,
ушла под вечер.
Тебе казалось: ты права,
себя не мучай;
что всё на свете трын-трава,
счастливый случай.
Жизнь, это сладостный мираж.
Лови мгновенье!
А от меня какой кураж?
Закроем пренья.
Я простофиля, мещанин
и неудачник.
Тебе же нужен Алладин
и джин — в придачу.
Чтоб вы с заоблачных высот
на мир глядели,
и весть про солнечный восход
вам птицы пели;
чтоб от любви кружилась кровь,
и сердце глохло…
А я не слышал этих слов,
мне было плохо.
А я всё думал — ты придёшь
и скажешь: «Здравствуй!»
Но застучал по крышам дождь
шальной и праздный.
Прокралась ночь, темным-темна,
как вор на дело.
А за окном цвела весна
сиренью белой.
Но я, затравленный тоской,
был хуже Шнитке,
терпя, как чудик за стеной
нудит на скрипке.
Орал котяра на трубе —
знать, тоже бросили…
И так я думал о тебе
до самой осени.
Транзит
Салехард-Харасавэй —
нет погоды, хоть убей!
Третьи сутки, как в угаре,
третьи сутки мы в «Ямале»
отдыхаем от забот…
Третьи сутки вахта пьёт!
На последние гроши
наливай и не греши.
Салехард-Харасавэй —
«Надя, штопор поскорей!»
За столом всё веселее.
Снова голос из оркестра —
«Для гостей с Харасавэя…»
в пятый раз звучит «Маэстро».
В голове сплошной туман
от креплёного вина…
И помбур был пьян,
и она пьяна.
Яшу мучает икота.
До чего же спать охота!
Салехард-Харасавэй…
Улететь бы поскорей.
Родившийся в пятидесятых
Мы живём, под собою не чуя страны…
О. Мандельштам
Родившийся в пятидесятых
ровесник оттепели ранней,
я, как кали́ка неприкаянный,
в стране, иудами распя́той,
живу, не веря в покаяние
ни каинов, ни геростратов.
Живу без цели, как в прострации,
меж митингов и демонстраций,
под лозунги лукавых пастырей
и визг сплошного одобрямса
в шизофреническом пространстве
лжи, демагогии и пьянства.
А с мавзолея рожи корчит,
до славословия охочий,
очередной великий кормчий
косноязычием мороча,
заблудший в соснах трёх источников
частей марксизма, ну и прочего.
А те, кому совсем не хочется
с толпой маршировать на площади,
обречены на одиночество.
Они читают между строчек,
и пишут непонятным почерком,
где вместо фиги — многоточие.
А дальше — прочерк…
<1987>
***
«Не пей с утра», —
мне говорил отец.
Его я не послушался, подлец!
Всегда спешил желанию навстречу,
и утро плавно утекало в вечер.
А дальше снова солнышко вставало…
Так незаметно время пробегало.
Вконец устав от утренних забав,
подумал я, что был отец неправ.
И понял, чтоб на вещи сохранить
взгляд трезвый — надо с вечера не пить.
Тогда увидишь, как сияют звёзды.
Увы, догадка озарила поздно.
***
Странное имя — Анита.
Парки прядут полотно.
Эхо — и то позабыто,
и не тревожит давно.
Старые письма листая,
высмотрю серый листок —
словно гусиная стая
сонно летит на восток.
Канула в сумерках синих,
но обронила перо
сказочная гусыня,
Матушка Шарля Перро.
И долетело из детства
пёрышко это, кружась…
Вера в чудесные средства,
магии тайная вязь
не защитят от печали.
Но всё равно — чёрт возьми! —
в юности все мы мечтали
и не боялись любви.
Ах, эти чистые чувства
незамутнённой души!
В них уже не окунуться,
сколько родник ни ищи.
Грусть о прекрасном далёком
в сердце горчит, как полынь…
Жизнь обжигают не боги.
Как бы ни был одиноким,
я не останусь один.
Детский разборчивый почерк
свяжет в единый узор
то, что, — блуждая меж строчек,
тонкий знаток многоточий, —
я не прочёл до сих пор.
Сны паутины сплетают,
каждому — впору и в срок.
Где ты, Анита? Не знаю.
Старые письма листая,
серый увижу листок…
Время Паганини
Весенний ветер за дверьми…
В кого б влюбиться, чёрт возьми!
С. Чёрный
Апрель!
Капель, колготки, мини…
Либидо плещется из глаз.
На сердце время Паганини —
мечты, волнения, экстаз!
Природа ёрзает со стоном,
и суслик щерится в норе.
Душа трепещет от озона
назло озоновой дыре.
А кровь, как кратер Кракатау,
клокочет, упаси господь,
так, что шальные фру и фрау
фривольно оголяют плоть.
От Кабо-Верде и до Кубы
чуть зазеваешься —
пропал!
Креолок сладострастных губы
испепеляют, как напалм.
Весна!
И дочери Востока
наводят чары чередой.
В очах такая чернь порока,
что не упрячешь за чадрой.
И даже эскимосы в тундре,
презрев снега и холода,
забив моржа на «Камасутру»,
носами трутся без стыда.
Мимозы.
Грёзы.
Вожделенье.
Кошачий вопль пронзает слух.
Пьянят до головокруженья
желанья зов, томленья дух.
Лови капель.
Чуди ночами.
И феромонами дыши.
Пока, звенящими ручьями,
зимы заботы и печали,
как снег, смываются с души.
Бессонница
Сердце врёт: «Люблю, люблю!» —
на истерике.
Невозможно кораблю
без Америки.
А. Кукин «Гостиница»
Не называй меня
по отчеству,
стыдливо шею наклоня.
Своим озябшим одиночеством
ты так похожа на меня.
Как я —
не веришь обещаниям,
не строишь замки на песке.
Лишь сердца стук,
как SOS нечаянный,
дрожит прожилкой
на виске.
Часы твердят —
уж время позднее.
Наводит скуку натюрморт:
в пакете сок,
коньяк трёхзвёздочный
и с колбасою бутерброд.
Прогноз на завтра —
неуверенный,
с утра — похмелье,
днём — капель.
И, не открыв себе Америки,
я за тобой закрою дверь.
Была ли ты —
на час наложница?..
Лифт, забренчав,
поехал вниз.
Транзит.
Гостиница.
Бессонница.
И рифмы пошлые,
как жизнь.
Посвящение
…Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.
С. Есенин
Я жизнь испытывал сполна,
в потёмках кофточки снимая.
Как много выпито вина!
Но в чём же истина?
Не знаю.
С горячечных слетая уст,
слова любви пьянили сладко.
Глаза манили морем чувств
с невыразимою загадкой.
Казалось — только выбирай:
о, эти плечи, груди, ноги!
Развратницы сулили рай,
интриговали недотроги.
Я верил — выпадет зеро.
Но, где они? —
скажи на милость.
Как много мимо их — прошло.
Как мало их — остановилось.
Сквозь строй изменчивых огней
промчалась жизнь,
как электричка.
Но… снова тамбур, лязг дверей…
Нет, я не изменю привычке.
Пред тем,
как стихнет бес в ребре,
и обретёт душа смиренье —
я всё же посвящу тебе
последнее
стихотворенье.
О наболевшем
*
Прекрасна женщина во сне…
*
Как долог он, —
короткий этот взгляд.
*
Два вечных повода
для творчества:
чужая женщина
и одиночество.
*
Чем с женщиной вести
напрасный спор —
помой посуду;
вычисти ковёр;
пол подмети,
забыв о кураже…
И сразу станет легче
на душе.
Разговор с литредактором
И тёща, самолюбие дразня, В бездарности и лени упрекает, И не зовёт, когда звонят друзья, И никого с бутылкой не пускает.
Давным-давно устал я от родни.
И грустно мне, да некуда деваться:
Пока я жизнь осмысливал, они
Успели победить и окопаться!
И. Жданов
Не жди признания от тёщи
и вдохновенья от жены.
Что им самшитовые рощи?
Что им провидческие сны?
Когда бюджет расквасил губы,
а тёща полет огород,
аллюзия её с Гекубой
уж знай — к добру не приведёт!
И если шурин смотрит Гогой,
а тесть с похмелья хлещет чай —
ты клаузулой их не трогай,
амфиболией не смущай.
Про непотребные серены,
колон — не надо за столом.
Учти — метрические члены
чреваты по башке колом.
Давно пришла пора признаться,
что ты, как кур во щи, попал.
Твоя родня — твоё богатство.
Ты разве этого не знал?
Смирись, худого мира ради
(с опроверженьем не спеши),
что все твои знакомки — ляди,
а все коллеги — алкаши.
Троп про Алкеевые строфы
здесь все сочтут за пьяный бред.
Ты сам закрыл окно в Европу,
вникай в иной менталитет.
Смотри, друган, на вещи проще,
пока мосты не сожжены.
Не жди раскаянья от тёщи
и оправданий от жены.
Ты не один в подлунном мире?
Так привыкай к ярму, старик!
Забудь, что дважды два — четыре,
здесь надобен иной язык.
Стерпи, чтоб избежать цунами
и не закончить, как Нимрод,
когда с блестящими глазами
получку тёща заберёт.
Спроси с улыбкой кроткой:
«Сколько?» —
карманы вывернув до дна,
когда, сияя, словно ёлка,
придёт с обновками жена.
Попробуй объяснить без мата,
что вовсе не ленив, как пень,
и то, что ты зовёшь «зарплатой»,
дают раз в месяц, а не в день.
И если хочешь под пельмени
иметь сто грамм от тёщи в дар —
избавься от учёной фени,
открыв сифон — фильтруй базар.
Когда от корректурной правки
впадешь в литературный зуд —
про антиклимакс вдруг не брякни,
тебя неправильно поймут.
Чтоб не спалиться на измене
и допуск получить в постель,
не молви в трубку: «Кантилена»,
не прошепчи во сне: «Газель».
Моя твоя не понимает…
Прозренье — как холодный душ.
Эх, за кого тебя считают,
монтажник человечьих душ?!
Ты совершил немало ходок
и помнишь, как сказал пиит:
неисчислимо сколько лодок
уже разбилось так о быт.
Ведь как бы ни манило небо,
ты знаешь, что голодный — слеп,
и между зрелищем и хлебом
сначала выбирает хлеб.
Цени, что где-то на планете
тебя, «ты — наш кормилец», ждут,
с приветом у порога встретят
и даже тапки принесут.
Ну а когда под ношей тяжкой
безвременно сгоришь в труде —
повесят в шкаф твои подтяжки,
как кенотафию тебе.
Он часто спал на унитазе,
а, в общем, был большой простак.
И, находясь, порой, в экстазе,
всех посылал на твёрдый знак.
УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Отцы
Памяти Владимира Артеева
У Бога вам прощенья не просить,
поскольку расплатились в полной мере.
И не гадали: «Быть или не быть?»
С любовию, надеждою и верой
вы жили безоглядно, на разрыв,
в одном строю идя к великой цели.
От напряженья губы закусив,
пахали, строили…
И плакали. И пели.
Вы, словно хлеб, делили со страной
на всех — победы, промахи, удачи…
И обрели покой в земле родной.
А Страшный суд для вас не много значит,
коль суд людской вы вынесли, как крест,
среди толпы оставшись человеком —
в жестокий век, забывший стыд и честь…
Вы совладать сумели с этим веком!
Мёртвая дорога
Прикоснуться руками, как будто — к огню,
к стекленеющей стали куржавого рельса.
Не обжечься, но сердцем почувствовать всю
остроту и отраву манящего Цельсия.
В коченеющем небе продрогший петух
прочертил горизонт окровавленным гребнем.
И гудит тишина, словно свесился вдруг
на морозную стынь древний колокол медный.
То ли кости стучат похороненных здесь.
То ли сердце икает густеющей кровью…
Ни кола, ни двора, ни собаки окрест.
Кто же бродит тогда сквозь седое безмолвье?
Скоро вскрикнет петух, затрясёт головой
и рассыплет на снег кумачовую краску.
И нацелит, шипя, клюв изогнутый свой.
И сдерёт темноту, как посмертную маску.
Поминки
Памяти моего дедушки Константина Кривчикова
и других родных — жертв террора сталинской эпохи
Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой…
Ах, вроде счастья выше нету —
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.
Я. Смеляков
На похороны деда не успел.
Мне бабушка открыла дверь. С порога
заплакала. Я постоял немного
в молчаньи. А заплакать не сумел.
Мы выпили с угрюмым стариком —
роднёю дальней. Может быть, в последний
его я видел раз, он из деревни
приехал на прощанье похорон.
Мы пили самогон и говорили
о жизни, не стыдясь и не таясь.
И Сталина, конечно, приложили,
и прошлую, и нынешнюю власть.
Старик завёлся: «Как же так, племяш?
Ублюдки те — живут и в ус не дуют.
Послать бы их в расход — в подвал под пули.
Но где там? Даже в морду им не дашь».
Он стукнул по столу, встряхнув посуду.
«Да будь он проклят, грёбаный ГУЛаг!
Эх, сколько загубили душ, паскуды…
Помянем дядю Костю… Мать их так!»
«Отмучился, — продолжил он, хмелея.
— Господь его простит. А этих — нет!
Они людей губили за идею.
Ведь суки же?» И я кивнул в ответ.
Бледнею, и накатывает злость,
когда я вижу ястребиный профиль
того, кто всю Россию, словно гвоздь,
вбивал по шляпку в рудники и топи.
Уже лежит в могиле баба Нюся.
И дед навечно лёг в суглинный склеп.
А дядя Коля полностью ослеп,
пятнашку отмотав в Экибастузе.
Иудам, палачам и стукачам —
безвинных жертв,
клеймённых в чёрных списках,
кровавых слёз своих родных и близких —
вовеки не прощу и сам воздам.
История, как дерево, растёт.
А ветви на стволе, как вехи роста.
И ветку отломить не так-то просто…
Эх, лишь бы не безмолвствовал народ.
И если совесть будет в нас жива,
и в детях наших не засохнет память,
то будут рощи полниться стволами
и зеленеть побеги со ствола.
На кладбище и жизнь, и смерть проста,
а мысли обнажённей и яснее.
Как короток он, путь от Мавзолея
до праха безымянного креста.
На кладбище ни свиста, ни оваций.
А раб ты или царь —
не в этом суть.
Ведь смерть не подкупить, не обмануть,
её вердикт не признаёт кассаций.
Мои родные, в чём вы виноваты?
Да есть ли он —
тот самый Высший суд,
где власть и блат от кары не спасут,
а палачам не избежать расплаты?
Как тихо здесь… Берёзы не шумят,
лишь дышит земь пожухлою травою.
И кажется, что снова в листопад
тропинкой узкой мы идём с тобою.
И знаю я, что вечно вспоминать
осенний вечер, мелкий дождь и слякоть.
И стыдно мне, что слёз не удержать.
И горько мне, что разучился плакать.
<1986>
Комбат
Он пережил своих солдат.
И больше писем не придёт
ни через день, ни через год
в квартиру, где живёт комбат.
Открытки, письма на столе…
Отдельной стопкой — телеграммы,
что много лет не уставали
напоминать о той войне.
Перебирая имена,
он до утра сидит на стуле
и «Беломор» угрюмо курит
без утешения и сна.
Как будто в том виновен он,
что смерть сама верстает списки,
и весь полёг под обелиски
его стрелковый батальон.
Приходит боль ночной порой,
осколком разрывая сердце.
За бруствером — не отсидеться.
И дольше жизни длится бой.
Первые
Габдель Махмуту
Наш бедный стол всегда бывал опрятен
И, вероятно, только потому,
Что чистый спирт не оставляет пятен.
Так воздадим же должное ему.
А. Межиров
Было дело!
Наше дело не забыть, не сплавить.
Как хрустела
на морозе сталь — тоскует память.
Не сидели
в ожидании небесной манны.
Поседели.
Эй, хозяин, доставай стаканы.
Не стремились
ни в герои, ни в газетные портреты.
Не светились
в комсомоле, не хватали партбилеты.
Не крестились —
бога нету и оставим сантименты.
Уносились —
ноги в руки, от тоски и алиментов.
Было племя!
Не скулили, не считали километров.
Было время!
Пролетело, просвистело ветром.
Эй, хозяин!
Режь буханку, открывай консервы.
Мы то знаем,
то, что значит это слово — первый!
Тост поднимем
на закате нашей прежней жизни.
Не забыть нам,
как торили путь, тараня зимник.
Как вгрызался бур,
хрипя, круша гранитную породу.
Как ломался лёд,
и уходил гружёный КрАЗ под воду.
Как пахали
до угара, таял снег на потной… робе.
Как давали
газу и фитиль вставляли всей Европе.
Как гудели
под аккорды: «Путь далёк и долог!».
Как шалели
от нахальных рыжих комсомолок.
Были люди!
Не считали, что зачтётся — не зачтётся.
Кто рассудит,
как там дело наше отзовётся?
Первый поезд,
первый факел и уан, ту, фри.
Эту повесть
мы с тобой давным-давно прочли.
Прошагали.
Прободались на зубах, на жилах, нервах.
Мы-то знаем,
кто на самом деле был и будет первым.
Не по лжи
прожили, пусть сипели, но не пели лживо.
Коли живы,
то и значит, наше время — живо!
Наступает
время волка — наливай, приятель.
Мы-то знаем,
то, что спирт не оставляет пятен.
Не устанем,
не отстанем, поспевай, приятель.
Мы-то знаем —
чистый спирт не оставляет пятен!
Костёр
Р. П. Ругину
Костёр пылает на песке.
Закат кровавится.
Вода качается в реке,
и жизнь качается.
Качает лодку на воде.
Скрипят уключины.
Луна качается на дне.
Всё — дело случая.
Теперь кричи и не кричи —
ушло мгновение.
Лишь тихо плещутся в ночи
слова сомнения.
Щемящий до озноба путь
блестит под звёздами.
Но невозможно повернуть,
уж время позднее.
Неужто мы мечтали зря?
А в искрах пламени
сгорает время и заря.
Пришло прощание.
Ах, не хватает нам всегда
какой-то малости.
Висит над берегом звезда,
и нет в ней жалости.
Прозрение
Товарищ мужчина,
А всё же заманчива должность твоя.
Б. Окуджава
Прозренье наступит,
когда парашютом
качнётся снежок.
Признанье прелюдий
прошло, пролетело.
Подводит итог
бесстрастная вечность.
А, вроде, не вечер —
казалось вчера.
Такая вот встреча.
Такая вот нынче
на сердце пора.
Сто грамм без закуски
не чокаясь выпьем
и снова нальём.
По тропочке узкой
в набухшую тьму побредём.
По снежному следу
в бесслёзный мужской разговор.
Спешили к обеду —
на шапочный, вышло, разбор.
Ах, если б в походе,
в лихом поединке,
в крутом вираже.
Но время уходит.
И звёздный наш час
не наступит уже.
Ни завтра, ни позже
нас смерть ни в походе,
ни в битве не ждёт.
В предснежную пору
глухарь не токует,
труба не зовёт.
Стыдливо и горько
нам вслед прозвучит
на исходе пути:
Пусть жили и долго.
Но в долг. И всю жизнь
раздавали долги.
Засыпано тело.
И не с кого справить
последний должок.
Душа отлетела,
когда парашютом
качнулся снежок…
Шахматист
Юрию, Николаю, Борису
Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить!
О. Мандельштам
Шахматист играет в шашки.
Он и в карты не дурак.
Только бы не спутать масти —
выйдет полный кавардак.
Не печалься друг Арсентьев.
Наша странная игра
нам подарит воскресенье.
Ох, и будет нам веселье,
как сойдёт ночная мгла.
Как развеется дымина,
как проветрится наш дом…
Настоящие мужчины
засыпают за столом!
Нас славянская защита
не подводит никогда.
Есть спасенье от гамбита —
ваша дама будет бита.
Знайте меру, господа!
Чтоб не пить из медных кружек
и не стала жизнь борзей —
выпьем, братцы, за подружек!
Выпьем, братцы, за друзей!
Настоящие мужчины
ходят в дамки, бьют в дуплет.
И не знают середины.
Нам, татарам, — всё едино.
Трое сбоку, ваших — нет…
Дети застоя
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.
Н. Коржавин
1
Живём, с историей не споря,
с любой концепцией в ладу.
Мы, дети сонных лет застоя,
коней не сменим на ходу.
Ах, переправа, переправа…
Где берег левый, берег правый?
Авось куда-нибудь прибьёт.
Не унывая и не плача,
любую боль пересудачим,
и с верой не пойдём в народ.
Хотя и вышли из народа.
Гордясь сберкнижкой трудовой,
живём в семье не без урода
одной уродливой семьёй.
2
Нас правда мучает под утро
изжогой тяжкого похмелья.
А новый вождь, прищурясь мудро,
всех упрекает за неверье.
Но сам глядит в Наполеоны,
как мы глядим на дно бутылки.
Что там?
Надгробий миллионы,
кресты, лефортово, бутырки.
Гремят салюты над Москвою,
спят неизвестные солдаты,
а за колючею стеною
стенают ватные бушлаты.
Курочат выставку в Манеже,
всё выше горы лжи и фальши.
Хоронят веру и надежду
под торжествующие марши.
3
Какие котлованы вырыли!
Какие храмы в прах развеяли!
Лозу и кедр под корень вырубили,
лишь ели лгут за мавзолеями.
Так долго лозунги брехастые
нам ум и совесть всуе застили,
что превратилась площадь Красная
в погост, где каины и авели
лежат рядком одноутробные,
одной идее присягнувшие, —
всех нас, шагающих колоннами,
на жизнь и веру обманувшие.
И всем, идущим мимо знамени,
затем, чтобы блюли наследство,
лукаво авели поставили
печати каинов на сердце.
4
Долго нас в стойле держали,
и караульный гнобил.
На партактивах — дремали,
час отрезвленья — не бил.
Маршировали — лишь строем.
Голосовали — лишь «за».
Верной дорогой к застою
еле ползли поезда.
И привела та дорога
к станции Караганда…
Хамам, отвергнувшим бога,
в храм не войти никогда.
5
Вновь по кухням беседы
от зари до зари.
Мы снаружи — кадеты,
анархисты внутри.
Наше мужество пахнет
киселём и борщом.
Чу, Чернобыль шарахнул!
Только нам нипочём.
Заразили нас с детства,
как скутулой парши,
равнодушием сердца,
анемией души.
Ничего мы не стоим —
настучим, промолчим…
Мы ведь — дети застоя.
И на этом — стоим!
<1988>
Перечитывая Данте
И ты поймёшь, что разумел Харон…
Д. Алигьери «Божественная комедия»
Вспышка справа, вспышка слева…
Жизнь, как пуля, пролетела.
Шрам на сердце: умер друг…
Ночь. Бессонница-отрава.
Книга. Данте. Переправа.
Лодка. Волны… Память… Круг.
…Ждёшь звонка, как похоронки.
От друзей — одни воронки.
Может, осерчал Всевышний…
Может, просто время вышло
и пора — монетку в рот?
Мерно лодочник гребёт…
Крошит слёзы норд колючий,
хруст лопат, как скрип уключин.
Хрип кладбищенских ворон.
Хвоя. Холод…
Стикс. Харон…
Выбор
Юрию Баскову
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.
А. Галич «Старательский вальсок»
Ни кола, ни двора, ни отчества…
Весь твой выбор —
петля да сума.
Прямо в душу,
Твоё Высочество,
заходи и сходи с ума.
Поистрёпана жизнь до ниточки,
так и кружится вороньё.
Богу в праздник
черкни открыточку —
пусть не жлобится, ё-моё!
Ты не ровня менялам изгнанным.
Искра божия — не товар.
Много званных, да мало избранных.
Дар не купишь, на то и дар.
Не отхватишь его по блату.
Как и чистой воды бриллиант,
нет, не пилятся на караты,
ни призвание, ни талант.
Не поддакивая начальникам,
ты в парткомах не рвал пупок.
Глаз не пряча, не слыл молчальником
и писать не умел меж строк.
Что выращивал, то и сеял.
Настоящий, как пионер,
жил по совести, — фарисеев
посылая на букву «х..».
В срач не веря о светлом будущем,
среди «правильно» голосующих,
верноподданно митингующих,
честь имея — не был в чести.
А за то, что душа, как рубище,
ты прости их, убогих, прости.
***
Палач приходит на рассвете,
когда сопят в кроватках дети.
Не поспешит, не опоздает.
Он стар и мудр, и дело знает.
Он знает, что в ночном кошмаре
пронзает сердце, как иглой,
и разум плавится в пожаре,
рождён сверхновою звездой.
А кожу рвёт венец терновый.
И, чтобы стоны заглушить,
ты должен раскалённым словом
кровавых мальчиков убить.
Но трудно вырваться из клетки
привычных снов, унылых дней.
И ночь уйдёт, оставив метки
в ладонях — стигмы от гвоздей.
И сердце не пронзит иглою,
и не сорвётся в пропасть страсть,
когда завистливой змеёю
завьют карьера, деньги, власть.
И все прозрения убоги,
как вдохновенье не зови,
когда со строчной — твои боги,
а вера — в Спас не на крови.
Смертельно прикасаться к звёздам,
когда решишь, что Бога нет.
Забыв завет, ты слишком поздно
изведаешь, как ржёт конь блед,
как запах зла и образ зверя
дотла сжигают образа.
И бездны вызов за безверье —
звериный взгляд в твои глаза.
Безумны утренние звёзды,
когда сжимает разум страх,
и сердцем осязаешь грозный
полынный запах на губах…
Прости-прощай
Анатолию Стожарову
Я помню этот город на мысу…
Нарежь-ка, друг, оленьей колбасы…
Бруснику собирали, как в лесу,
ладонями со взлётной полосы.
Везли икру и рыбу втихаря —
борт от земли отваливал едва,
по кружкам разливали сухаря,
чтобы летел, как ласточка, «Ли-2».
Гулял по деревянным мостовым
задорный и отчаянный народ.
И был порою пьяным в синий дым
посёлок под названьем «Гидропорт».
Дружили и ругались от души,
не маялись изменой и виной.
И были, словно печка, горячи
татарки под холодною луной.
Прости-прощай нечаянная грусть.
Я больше в этот город не вернусь.
По старым тротуарам не пройдусь,
с друзьями теплотой не поделюсь.
Не выпью на причале коньячка,
не съем из белой нельмы шашлычка.
Здесь всё давно не так, не то, не те…
Мне места нет на этой широте.
Я помню этот город, этот век.
Как ждали на причале ледоход,
как верили в удачу и успех,
общагою встречая Новый год.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.