
Бесплатный фрагмент - БорисЪ
БОРИСЪ
повесть первая пятьдесят дней ада
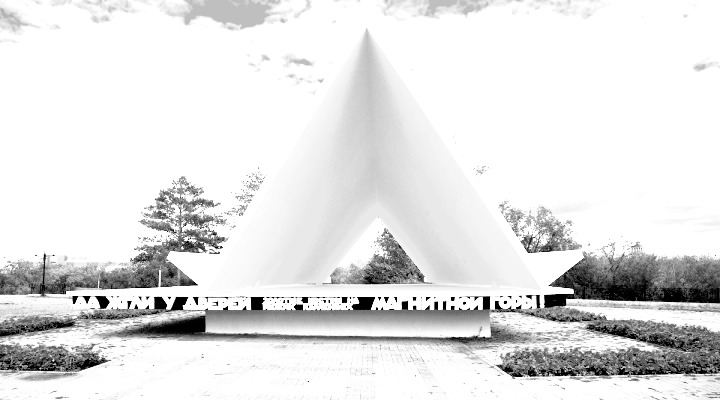
Глава 1 Ночь накануне Рождества
1
Я вынырнул из забытья и ощупал себя — не верилось, что я все еще жив. После вчерашней попойки… какой там! после недельной попойки трудно реально оценить — на том или на этом свете ты находишься, и твое ли еще это бесчувственное тело, которое сейчас онемевшими пальцами щупаешь.
В нашу маленькую комнатку пробивался свет. Старая скрипучая семейная развалюха-кровать приютила мое туловище. Почерневший от времени комод смотрел на меня, не моргая, своими кнопками-ручками и ухмылялся.
Стоп!
Это я смотрел на него!
Кто еще здесь?
Крашеный лет сто назад синей краской табурет в местах потертостей выдает все свои прежние цвета: от белого до темно-коричневого. Швейная машинка жены, в перерывах от шитья служащая ей тумбочкой, а мне письменным столом. Разрисованное потрескавшейся амальгамой зеркало на комоде, пузатый графин на табурете.
И я, хоть и населен крутящимися в голове мыслями, но по способности двигаться пока мало чем отличаюсь от этой мебели.
Что сейчас? Утро? День? Или фонарь отсвечивает от снега и дурит меня, зная, что сил подняться и посмотреть на часы у меня нет.
Откинул руку за спину, пошарил.
Место рядом пусто и холодно. Но это ни о чем не говорит. Когда я в таком… в никаком состоянии, жена спит или на сдвинутых стульях общей кухни, или на сундуке в коридоре.
Пьяный я… короче, сам себе не нравлюсь.
Никогда бы не подумал, что думать — так тяжело. От жалких полутора мыслей устал, как будто полдня землю на тачке возил.
Тьфу… Чем это пахнет?
Похоронами.
Кто-то умер?
Не я.
Я — живой.
Кто?
Я верчу стопудовой головой, глаз цепляет еловую ветку, подоткнутую под рамку зеркала. На ветке кольца серпантина и красный елочный шарик.
Скоро праздник, второй наш совместный Новый год, вот жена и старается хоть как-то украсить нашу серую комнатку цветными пятнами: тут красивый лоскуток — остаток от платья, там завиток ленточки, или вот этот вот стеклянный шарик.
— Слава богу, все живы, — благодарю я судьбу и закрываю утомившиеся глаза.
Страшно хочется пить. Но так же страшно не хочется даже шевелиться, не то, чтобы вставать.
Две страшные силы начинают во мне непримиримую борьбу. Жгучий жар наполняет глотку, сушит язык и, уже и мыслям в голове крутиться невмоготу от обволакивающей сухости во рту.
Жажда, — у нее огромный опыт, — уверенно побеждает нокаутом, и я сползаю с кровати.
Графин с водой пуст.
Я знаю, это Фима его опустошила.
Специально. Чтобы я сам, своими ногами добрел до кухни, до заветного крана и по дороге протрясся и проснулся. Иначе, напившись до тошноты, опять упаду и проваляюсь бездумно до самого ее прихода с учебных занятий и с рабочего дежурства.
Вода из крана течет ледяная. Пить невмоготу, — ломит зубы и крючит мозг. Я сую под струю голову и вскрикиваю от обжигающе-ломкого холода. Трясу чугунной башкой, смахиваю капли, застрявшие в волосах и, пока борюсь со своей дурностью, окончательно просыпаюсь.
— Ух! — вздыхаю, выпрямляясь, и даю себе слово: — Все! Больше ни-ни! До самого Нового года ни-ни! Только на празднике, только в своей компании, об руку с молодой женой.
Даже не пытаюсь убедить себя, что стоят эти мои каждодневные обещания. Тут же рука на автомате лезет за тумбу — там заначка спрятана, на опохмелку хоть глоток завсегда есть — звериная привычка закапывать про запас во мне не убиваема.
Был…
Наверное, ночью вставал и спасал свое бесценное туловище.
Ругнувшись, заменяю заначку еще одним глотком воды из-под крана и возвращаюсь в комнатку.
К зеркалу, пониже украшенной еловой ветки, пришпилена записка.
«Тебя потеряли на работе. Редактор велел к 9 зайти на Казакова.
Ты знаешь. Срочный материал.
Не забыл, после обеда уезжаешь в Челябу?»
— К девяти? — тупо смотрю я в записку и поднимаю глаза. — А сейчас четверть одиннадцатого.
Пойти?
Или уже поздно?
Уснуть теперь не смогу. А вот пожрать…
Пожрать?
— Бр-р-р! — мутит в животе. — Не-е. Вряд ли найдется сейчас такой кусок, который в горло полезет.
На улицу Казакова от моего дома добираться минут с пятнадцать, не больше. Вполне хватит, чтобы вернуть себя к жизни.
— Там за углом, на Первомайке, пиво продают, — вылезает радостная мысля. — После кружки-другой пива и перекусить можно будет.
Стимул обозначен.
Повеселев, собираюсь, одеваясь, выглядываю в промерзшее окно. В середине стекла остался неровный пятачок прозрачности. Слышно, как ресницы царапают узорчатую пленку льда — вжик-вжик, а в лоб вгрызается острый холод.
Ситуация с погодой ясна: снег не идет, ветер не бесчинствует, ресница не успевает примерзнуть.
Выхожу, прикуриваю папироску, оглядываю улицу вправо-влево.
Первая затяжка — время на раздумье: — Идти на трамвайную остановку или не идти?
— Пожалуй, пешком прогуляюсь, — включается в разговор моё второе «я». — Не шибко и проиграю по времени, но хоть развеюсь.
Морозец невелик, градусов двадцать пять, не больше. Снег под ногами приятно поскрипывает, что-то рассказывает неторопко. Под такой говорок ботинок со снегом шагается веселее.
— Ну, подумаешь, опоздал, — утешаю я себя. — Не на смену же, не к станку. Скажу, что… оперативка… летучка… совещание… В конце концов, у меня не они одни… Да и… вообще ничего говорить не буду! Им надо больше, чем…
— Пошли все!
Прогулка идет на пользу. Если, выходя из дома, планировал: сначала пивка для здоровья, потом по делам, сейчас передумал. Чего это от меня пахнуть будет? Я ж, вроде как, на работе.
— Нет, интервью с трезвой головой возьмем. А потом и пивком перекусим.
Разговаривая сам с собой, незаметно дошел до нужного здания.
Два оштукатуренных этажа и цоколь. Низ выкрашен серо-черной цементной краской, этажи — желтой. Почти все каменные дома тут желтые в разных степенях насыщенности. Побочный продукт металлургического производства — сурик и охра.
К торцу здания примыкают ворота и длинный железный забор. Поверху ряды плохо натянутой колючей проволоке на кривых стойках и густо нависшие ветви старых кленов.
Сунулся в парадную дверь.
Дежурный без особого интереса посмотрел в мое удостоверение, сверился с лежащей перед ним амбарной книгой и, найдя, или не найдя что-то в записях, извинительным голосом сказал:
— Вам не к нам, товарищ корреспондент, — мелко мотнул головой и на мой немой вопрос сказал негромко, почти что шепнул. — Вам от крылечка направо, в подвал, — для верности продублировав слова пальцем-колбаской. — Там кнопка есть.
— В подвал, так в подвал, — улыбнулся я во всю ширь лица и пошел, куда послали.
Видно, не так часто пользовались этой дорожкой. Снег несколько дней не чищен, только натоптанная тропинка в рыхлом снегу да тонкая наледь на каменных ступенях.
2
Нажал кнопку.
Щелкнул замок, пропуская вовнутрь.
Большая квадратная комната четыре на четыре, прямо перед глазами зарешеченное окно во всю стену с полукруглым отверстием-амбразурой, в которое торчит голова сержанта с красным глуповатым лицом. Влево под потолком узкое окошечко, справа в стене массивная железная дверь и длинная широкая лавка: хочешь — сиди, а хочешь — и полежать места хватит.
Сержант постоянно шмыгает носом и подкашливает, простыл, наверное. Сквозняк у него тут, скажу я вам, и тянет не только от двери, в которую я зашагнул, но и от полуоткрытого окошка над головой.
Намеренно неторопливо, с полной своей сознательной важностью, пересекаю комнату по большим плиткам пола и встаю перед амбразурой полубоком. Слов для дежурного я еще не припас, пусть первый рот открывает, нам и подождать не в тягость.
— Вам что, гражданин? — спрашивает, выгибая шею. Ему явно неудобно сидеть внизу и выглядывать в эту амбразуру, ломая свою шею. Мог бы и просто через стекло смотреть, но нет, надо именно в этот вырез, напрямую.
Я закончил изучать обстановку, полез в карман пиджака и молча, одной рукой, раскрыл свою книжечку. Показываю в амбразуру редакционное удостоверение — оно сильнее всяких слов на человека действует, — и жду реакции. От его вида у всех граждан настроение меняется. В лучшую сторону.
Для меня.
— А-а, товарищ корреспондент? — протягивает сержант, вылезая из ямы. Толстая шинель, накинутая на плечи, мешает его движениям, он путается в полах, откидывает их руками и смешно, по лошадиному, отклячивает свой зад. — Вас тут к девяти часам начальство ждали.
— Опоздал? — спрашиваю я, и кружка пива становится чуток ближе.
Сержант смог выпрямиться в свой полный, ниже среднего, рост, вытащил из-под нагромождения бумаг связку с ключами и громыхнул ей, как боталом.
— Да чего ж, может, и к лучшему, — себе под нос пробубнил. — Бывают случаи, когда лишняя пара часов совсем не лишней оказываются.
— Чего? — не понял я.
— Да это я про свое, — так же неясно буркнул сержант. — Сейчас отопру, вы погодьте.
Это его «отопру» и «погодьте», совсем домашнее, теплое, немного развеселило меня, — уже и лицо у сержанта не кажется таким глуповатым, а кажется мило простоватым. Наверное, с какой-нибудь близлежащей деревни прибыл, Медведевки, Злоказово или Тыелги. Отслужил действительную и попер в город, примазываться к другой жизни, к сытости и достатку.
Он встает и уходит, чтобы через полминуты открыть мне черную железную дверь в обшарпанной темно-синей стене.
— Следуйте за мной, — говорит равнодушным голосом и идет-ковыляет по коридору, ни разу на моё движение не оглядываясь.
Входная дверь, влекомая пружиной, защелкивается, нехорошо вскрикнув. В тишине коридора звук получается похожим на выстрел в спину.
Пока мы идем, я успеваю осмотреться.
Бетонный крашеный пол, плохо оштукатуренные стены тоже окрашены, но уже в бледно-коричневые цвета. Ряд серых дверей: слева три и справа четыре, — в замках, защелках и подглядывающих глазках. Далее поворот и расширение коридора — там торчит угол стола и часть скамьи. По потолку толстые трубы в два ряда, черные, в следах потеков и в хомутах. Напротив каждой двери плафон с лампочкой. И гулкий сбивчивый звук от наших обувок.
Сержант подходит к двери под номером «4», открывает ее большим ключом и предупредительно пропускает меня вперед.
— Посидите, — уже просит он, делая приглашающий жест развернутой ладонью. — Начальник освободится и подойдет к вам.
Я оказываюсь в комнатке еще меньшей, чем та, в которой мы с Фимой квартируем. Железный стол, два прикрученных к полу табурета, узкая двухъярусная деревянная шконка и ведро в углу.
Удивляют стены. Их, должно быть, штукатурили. Но раствор не затирали, не выравнивали, а дали просохнуть так, как набросалось. Я крутанулся на одной ноге, пробегая глазами по всему периметру стены.
— Чтобы надписей не делали, — доходит до меня. — Рационально.
Сажусь на табурет.
Сколько ждать придется? В любом случае папироска ожидание сократит.
— Небогатая обстановка, — оцениваю я.
Что в этих стенах такого особенного? Будят какие-то воспоминания, а вот какие — не пойму. До боли в зрачках вглядываюсь в их неповторимую шероховатость, морщу кожу на переносице и вдруг увидел! явственно увидел полуподвальчик пивной. А в голове навязчиво так маячит отложенная кружка пива с шапкой белоснежной пены и дымящаяся тарелка пельменей со сметаной, дразняще отставленная подальше от меня. Видит око, да зуб неймет.
И тут я ощутил голод. Настоящий, сосущий, поглощающий все внимание и вызывающий мелкую дрожь в коленях.
— Это сколько же я не ел по-нормальному?
Пытаюсь вспомнить, путаюсь в днях недели и числах, но только рваные куски застолий лезут в память. Переходя из одной забегаловки в другую, мы пьем, орем, поем и опять пьем. За что?
А за все подряд.
Повод?
О! Тут не оторви и не выбрось. Повод замечательный! Для меня.
Его величество Гонорар!
Сладкое воспоминание, сладкий дым папиросы.
Я прогоняю по памяти, как могу, дни и недели декабря. Целой картины не получается — куски да обрывки. Кажется, я все эти четыре недели жил в чужом рваном ритме. Я — не я и рожа не моя.
— Вот, собака! — ругаю себя нехорошими словами. — Я же Фиме обещал воротник на пальто новый справить. Деньги-то хоть остались?
Обшарил карманы, выгреб свое состояние на стол, разобрал, разложил. Так, мелочь, пару раз в подвальчике с дружками посидеть.
Хоть что-то полезное с гонорара получилось, кроме этой бесконечной попойки? А?
Силюсь вспоминать, морщу лоб.
— Я ж ей… я ж, вроде, отдавал что-то…
В комнатке, как в забегаловке, сизо от дыма папирос. Это я курю одну за другой, пытаясь сбить гнетущее чувство голода.
Вновь подступила жажда.
— Эй! — повернулся вполоборота на табурете и крикнул за спину, в глухо запертую дверь. — Воды, — одергиваю себя за барский тон, поправляюсь, — пожалуйста, принесите!
Еще одна папироска сгорела, прежде чем щелкнул засов и угрюмый служивый, в другой, не милицейской форме, молча протянул мне мятую кружку с тепловатой жидкостью.
Какой-то он замызганный, неопрятный. Широкие ладони в сбитых костяшках пальцев, просторная гимнастерка с запятнанными манжетами, расстегнутый ворот и свободно болтающийся ремень. Как будто он не на службе находится, а в своем доме — встал с постели, накинул кой-чего на скорую руку и вышел во двор к скотине — сенца там подкинуть или водицы ведро из колодца зачерпнуть.
— Когда начальник подойдет? — строго спрашиваю у него, демонстрируя свой уровень.
Не тронутое эмоциями лицо равнодушно скользнуло по мне.
— Нам за начальство знать не велено, — пустым, совершенно лишенным эмоций голосом отвечает он, выставляя себя во множественном лице.
— А кому велено? — еще напористее наступаю я, сгоняя к переносице брови.
— Дежурному.
— Так позови его!
Он на долю минуты, чуть наклонив голову, задержал на мне изучающий взгляд. Кивнул, что ли? И лениво закрыл за собой дверь.
Меня оскорбило такое неуважительное отношение служилого, пустые его ответы пустым голосом и вот это вот запирание моей двери на замок.
Обязательно, да?
3
— Крикнуть еще раз? — бурлило во мне. — Потребовать вызвать дежурного?
В другой ситуации я бы так и сделал. Но опоздал-то на два часа я! И, вроде как, долг платежом красен, два часа вынь да положь, сиди и не рыпайся!
От нечего делать начинал фантазировать.
— А ну как я и взаправду арестованный! По ложному доносу завистников!
Каких?
Ковыряюсь в круге моих знакомых и что-то никого не нахожу, кто бы мог хоть в малом позавидовать моей жизни.
Со смешком, подавленным в горле, представлю себя в роли графа Монте Кристо, единственного известного мне узника. Как будто сижу я в полном неведении, без суда и следствия, и даже не понял еще, что я здесь навсегда. Этакий новоиспеченный «Узник замка Иф».
Я, конечно, не граф и даже не мелкий поместный дворянчик. Дак и он сначала был простым моряком. И тюрьма моя на замок не тянет, но я же просто фантазирую!
Как бы на месте графа я себя повел?
Уже с этими мыслями осмотрел свою камеру, попробовал представить, как она станет всем моим миром на многие годы.
В это узкое окно будут заглядывать птицы. Из того вон угла прибежит подруга-мышка за своей пайкой хлеба. Вон там начну подкоп рыть, к соседу, как там его звали-то? Монах какой-то, Фариа, вроде. А писать? Ну и писать буду. Потребую бумаги, карандашей, курева побольше и книг…
Иссякла моя фантазия.
Ничего, кроме ухмылки, из моих представлений не получилось. Какой из меня, к черту, узник? Я ж здесь по заданию редакции, написать надо в нашей газете о жизни и работе этих вот людей, «написать честно, объективно, как они попросят».
Это редактор так сказал.
А я еще подъе… переспросил у него:
— Как писать-то будем? Честно и объективно? Или как они попросят?
А он замахнулся на меня кулаком и выгнал из кабинета:
— Договоришься у меня тут! — крикнул вдогонку и еще кое-чего от себя для убедительности добавил, но я уже далеко был.
Мне надолго рассиживаться тут некогда. Еще сегодня вечером в Челябе ребята ждут. Да на завтра несколько встреч назначено, заседает литературный штаб и на радио пригласили.
Сейчас придет их начальник или кому там они это дело поручили, расскажет мне все, что они про себя увидеть хотят. Наверняка уже что-то для газетного материала приготовили! Обсудим тему и я пойду. Сначала в пельменную, а потом и…
А, куда ноги понесут!
Я отпил глоток из кружки и чуть не выплюнул все на пол. Жажды не утолил, но больше осилить не смог. Вода не только противно-теплая, еще и с каким-то странным вкусом, словно в ней школьный мел или гашеную известь растворили. С детства помню этот вкус. На зубах и по нёбу образовался тонкий налет.
А тут новая напасть.
Папиросы кончились.
Я, сжав плотно губы в полоску, а пальцы в кулаки, сидел с прямой спиной и терпел. Мне жуть как не хотелось еще раз видеть перед собой этого мрачного разносчика воды. Папиросы — не вода, не первая необходимость. Не буду себя позорить, не выкажу слабости, промолчу.
Без папирос совсем плохо.
Посчитал по окуркам и сам себя пожурил. Хватило бы до вечера, если бы так бездумно не смолил.
Никогда не делал такого, но в этих стенах, где другого выхода просто нет, и еще от вынужденного безделья, распотрошил все оставленные мной бычки и набрал с горсточку табачку. Из блокнота вырвал страницу. Смастерил пару самокруток. Не шибко богатых, но все же.
И, странное дело, пока вытрясал табачок, сортировал и скручивал самокрутки, курить хотелось до писка. А вот теперь лежат на столике передо мной две криворукие «козьи ножки», а я смотрю на них и не спешу прикуривать.
Всегда в кармане какую-нибудь книгу носил, вот и намедни, помню, дали почитать «Дон Кихота Ламанчского». А при себе не оказалось. Или обронил где, или кому оставил. Нет-нет! Вспомнил! Домой принес. Наверное, Фима взяла, она любит такое.
— Жалко, ожидание не было бы таким тоскливым, — сокрушаюсь.
Убивая время, копаюсь в блокноте.
Карандаш, бумага, никто не дергает. Очередной раз удивляюсь себе — какие хорошие мысли бывают иногда в моей голове. Аж похвалить себя хочется. Ну надо же! И это я записал!
— Чего бы и не поработать? — цепляюсь за красивую фразу, и уже зуд в одном месте, и карандаш сам в руку прыгает
Липнут глаза, легкое головокружение качает меня по волнам.
Накурился лишнего?
Или от голода это?
— Отдохну чуток, потом и поработаю.
Я оттолкнул блокнот и карандаш на край стола, положил на скрещенные ладони шапку, и, устроив на ней плывущую голову, уснул.
4
Душераздирающий крик вырвал меня из забытья.
Словно с человека по живому сдирают кожу.
В полной темноте я попытался вскочить с табурета, совсем забыв, что он замурован в пол, и едва не завалился за спину. Кое-как восстановил равновесие и чисто интуитивно, на цыпочках подбежал к запертой двери. Казалось, не нити страшного крика, а целые жгуты исходят от железа, просачиваясь в несколько слабых полосок коридорного света.
Чужие вопли боли рождались за ближней стенкой, в соседней комнате, они, заполнив все воздушное пространство, проникали и в меня, и меня начало выворачивать наизнанку, и непременно стошнило бы, если бы было чем.
Что есть силы я заколотил в прогибающуюся под моими пинками дверь.
Крик прервался, и страшная звенящая тишина обрушилась на меня сдавливающей тяжестью. Уже занесенная для очередного удара нога замерла, и я чуть не упал, потеряв равновесие.
Мне почему-то почудилось, что сейчас придут ко мне, и уже не чужой, а мой голос будет висеть страшным проклятием в черноте липкого воздуха.
Я, как застуканный на горячем школьник, осторожными шагами, вспоминая расположение предметов вокруг себя, прокрался к шконке и лег на нижнюю полку, свернувшись калачиком.
— Только бы не пришли… только бы не пришли, — шептал я молитвой, покрываясь холодным потом.
Когда шум за стеной возобновился, я даже немного обрадовался.
— Пум-пум, пум-пум, — доносились глухие удары во что-то мягкое.
— Ох-оох, ох-оох, — запоздало отвечал на удары неизвестный.
Это походило не на избиение, а на работу парового молота, — монотонно, с одинаковой глубиной хода поршня и расчетной силой.
— Неужели такое можно вытерпеть? — подумалось мне. И тут же успокоительно догналось: — Это не я… это не меня пытают. Там враги! а я? какой я враг? Я же не враг! Меня незачем так тиранить.
И тут я обратил внимание на окно.
За его маленьким прямоугольником было темно.
Очень темно.
Ныне, вообще-то, последняя из самых длинных ночей в году, а небо было сплошняком укрыто низкими тучами. Так что вполне может быть и шесть часов вечера, и глубокая полночь.
Почему-то именно сейчас очень важным показалось знать, который теперь час. Сколько я спал? Может, ко мне уже приходили и, видя, что я сплю, не стали беспокоить?
Часы! У меня же есть часы!
Вспыхнувшая спичка повергла меня в уныние.
Четверть девятого.
Любой начальник давно дома. И я, опоздав на встречу на каких-то два часа, наказан еще большим ожиданием. Наказан и своей поездкой в область, и пропущенными встречами. Наказан обедом, кружкой пива, покоем и вот этим вот жутким воплем.
Вскрики, стоны и удары враз стихли.
По коридору зашаркали чьи-то сапоги. Я метнулся на их звук.
— Эй! — негромко поскреб я холодное железо. — Вы забыли про меня?
Спросил и тут же, испугавшись своей смелости, затаился, прислушиваясь.
Никакой реакции.
Но шаги гуляют рядом.
И тогда я, набрав побольше воздуха в грудь, ударил кулаком и повторил свой вопрос.
— Вы забыли про меня?
— Пахом! — услышал я хриплое покряхтывание совсем рядом из коридора.
— Чевось? — донеслось гулко.
— Кто у тебя в четвертой камере? — тот же покряхтывающий голос и удаляющиеся шаги.
Сердце мое вспрыгнуло и остановилось.
Что-то ответили тише первого раза, — мне из-за двери не разобрать, даже прислонившись ухом к щёлке.
Через пару минут зашкрябало по железу: маленькое окошко в середине двери откинулось, на образовавшийся столик поставили кружку, накрытую изогнувшимся лодочкой куском хлеба.
Я, полуприсев, попытался заглянуть в образовавшуюся дыру на живого человека.
— Быстро взял! — рявкнул обнаженный по пояс коренастый мужичок с кровавыми набрызгами по животу и по волосатым рукам, и начал закрывать амбразуру.
Кружка заскользила по наклонной поверхности, хлеб свалился и, кувыркнувшись, сухо упал на пол.
Полилась жидкость.
Я успел поймать кружку и сохранить несколько глотков темной воды.
Мой язык онемел.
Я не смог ни о чем спросить этого жуткого служилого, только, присев на корточки, зашарил рукой по полу в поисках упавшего хлеба.
Шаги от моей двери поползли по коридору. Мне понадобилась минута, или пять, чтобы выровнять сердечный ритм и восстановить ровное дыхание.
В темноте я добрался до стола, уселся поудобнее — приготовился закусить и уже почти вонзил зубы в сладко пахнущий хлеб.
Съесть его я так и не успел.
Крики боли, глухие удары, крепкая ругань и мат облепили меня так плотно, что, даже натянув шапку на уши и прижав ее руками, я не смог выйти из плоти этого ужаса.
Били и пытали не меня.
Страдал человек в соседствующей с моей камере.
Но от этого было еще страшнее.
Как может один человек выдержать такое?
Раз, другой, третий.
Почему он не умирает?
Почему он не теряет сознания?
Разве возможно столь долго терпеть?
Как не кончится этот крик?
Да сколько же его в человеке спрятано?
Я бегал по своей камере, стучал головой в стену, скрипел зубами, кроша их, я кусал губы и, казалось, медленно сходил с ума.
У меня самого набралось полное горло неорганизованного звериного крика, он только ждал сигнала, чтобы вырваться наружу и переполошить весь свет. Страх гулял где-то под моими ногами — это я ждал, что вот сей миг чья-то цепкая рука выскочит из расщелин пола, схватит меня за штанину, утянет и начнет так же беспощадно истязать.
В коридоре, напротив моей двери, включилась лампочка. Возле потолка над дверью забранное железными прутьями оконце в дверь шириной и в два кирпича высотой. Через эту дыру освещается моя камера.
После кромешной темноты и от этого скудного освещения стало громадно светло; даже самые дальние углы открылись.
И никого там нет.
И криков с ударами больше нет.
Умер человек?
Или паровой молот устал?
Железно громыхнули засовы, ударили шаги подкованных сапог по бетонке пола.
5
После недолгой паузы проснулся пустой голос.
— Ургеничус?!
— Чиво?
— Ты его не забил там случаем? — спросили насмешливо.
— Не-а! — ответили протяжно и презрительно. — Живучий, гад.
Жж-бам, — закрылась дверь. — Ш-ш-чёк, — встал на взвод засов.
— В ём жиру как в двухгодовалом борове, — делились открытием. — Пока до нужного места достучишься, весь потом изойдешь.
— Сказал что-нибудь?
— А мне зачем? — в словах неприкрытое удивление. — Я и не спрашивал.
— Дык, а это? — оторопело поперхнулся вопросом Пахом. — Чё ты тогда?..
— Завтре у его свиданка со следователем. Вот я и готовлю мясо к разговору.
Голоса сблизились и перестали надрываться.
— Думаешь, оклемается до утра? — высказал кусочек сочувствия Пахом.
— Утров на его жизни еще много будет, до какого-нить обязательно оклемается, — изобразил подобие смешка Ургеничус. — А и не оклемается, не велика нашему делу потеря.
— Так у тебя все, что ли, с этим?
— А чё, кто-то еще на очереди? — по-еврейски вопросом на вопрос отреагировал.
— Ну, есть.
— Энтот? — удар сапогом в мою дверь.
— Не-а, — лениво возразил, — напротив этого в журнале пока ничего не записано.
— А нам все равно, записано или нет, — он, гад, усмехается, а у меня по телу мурашки бегают. А ну и впрямь завалится, и что я ему скажу?
— Ну, дык, понятное дело.
— Я ополоснусь схожу.
— Ага, иди.
— Ты давай, пожрать сгоноши чего-нить. Праздник все ж таки.
— А чего гоношить? Чайник у меня завсегда горячий, тока хлебца подрезать.
— И «это» не забудь. «Это» у тебя есть?
— Как же в нашем деле без «этого», — хохотнул булькающе.
Двое у его двери разделились. Один пошел дальше, в закуток, шаги другого вернулись к входной двери в каморку дежурного.
Хлопнула деревянно дверь, коридор заполнился торопливыми шагами, застучали по столу кружки и миски. Еще несколько раз прошли туда-сюда, видимо, таская продукты и расставляя их на столе.
— Наливай!
Буль-буль-буль…
— Ну, будем!
Стукнулись кружки, послышалось громкое «ух».
— Хорошо прошла.
— Угу.
— Давай еще вдогонку.
— Давай.
Буль-буль-буль…
— Ух…
— Уххх…
Чавкающие звуки, шкрябанье ложки по алюминиевой миске, хлюпанье носов. Через плотно набитые рты разговоры.
— Не мучают они тебя?
— Эти-то?
— Ну.
— Не-а.
— Привык?
— А шут его знает. Наливай.
— Ух…
— Уххх…
— Знаешь, вот попросит баба курю бошку скрутить, — говорилось между жевками, — или крола забить. Жалко. Я ж их кормил-поил, на этих вот руках нянчил.
— Ну, знамо дело.
— Животина понимает, что кранты, глазки слезами полнятся.
— Плачет, значится, по-ихнему, — переводит под себя Пахом.
— Куренок, тот брыкается, крылышками сучит. Крол пиш-шит так тоненько, протяжно: — вьи-и, вьи-и! и тож вырваться норовит, когтем царапнуть. Жить им охота.
— Кому ж неохота?
— Вот животину всякую через это и жалко.
— А этих?
— А этих не жалко. Наливай!
— Ух…
— Уххх…
— Совсем ни на вот столько?
— Совсем. А за что их жалеть?
— Ну-к, люди ж.
— Не-а! Нелюди… Никчемные человечушки. За ими когда приходют, думаешь, хоть один из них, хотя бы как тот же куренок, брыкается? Или как крол, царапается? Рвется на свободу? Не-ет! Оне сразу бошки свои повесят и добровольно на заклание идут.
— Так уж и добровольно.
— А то! Голосок тихонький, жалобно-просящий. «Можно то-это взять… можно с женой попрощаться… деток обнять»… Тьфу!
— Вам же легче с таким народцем.
— Легче, говоришь? — выбрал паузу. — Ну, не знаю, не знаю, — чиркнула спичка, задули огонек. — Через их, таких, и я себя им подобным ощущаю. Ежли бы они, да хоть бы через один, отпор какой давали, там за нож, за табурет бы хватались, или палить начинали — ведь, почитай, у всех ноне энта штука есть?
— Есть, — согласительно кивнул Пахом.
— Их бы сюда пачками не перли.
— Скажешь, тоже.
— И скажу! — погромчел голос. — Как я чую, я так и скажу! Их бы стороной обходили. Ты вот попробуй-ка к кобыле с заду зайди?
Раздалось ржание.
— Копытами промеж глаз как заедет, и на чин не посмотрит!
— Во! И с ними бы считались! А так, тьфу, не люди это, скот — да не лошади, а сплошь бараны да коровы, и обходятся с ими по их чину, то есть что ни на есть по-скотски.
— Ну да, ну да.
— Вот, к примеру. Я его лупсую, он на голову выше меня, оглоблю через колено не поморщась сломает. У его руки свободные, у его ноги не связаны. Сидит сиднем! Я перед ним так, шпендик. Ткнет кулаком в полсилы, и нет меня, соскребай со стены. А и этот молчит, и даже рожу свою защитить от моего кулака боится — как бы, значит, меня таким неуважением не обидеть. Только зенки сощурит и скулит.
— Запуган народ.
— Многие даже кричать громко стесняются.
— Ну, я б ни сказал.
— Ты про этого? Так он давно уже и совесть, и все остатнее человеческое растерял. Мешок с дерьмом. А кричит? Это он боль из тела наружу отпускает. Куда ее столь в себе копить?
— Ну-к, тебе виднее.
— Вот ты тут ужо который год робишь?
— Дык, пятый пошел.
— Сколь среди их на твоёй памяти в петлю лезут? — задал подленький вопрос.
— Да уж со счету сбились. Один вон своими собственными зубьями себе вену на руке перегрыз.
— Для ча, я тебя спрашиваю?
— Страшно, небось.
— Во! Не вынес пыток. Энтот вену себе разорвал, того боль в петлю толкнула. А чего ж, коль помирать собрался, за мучения свои, за унижения с меня не спросил, а? Тебя ж, звереныша, совсем в угол загнали, всякого разумного смысла жизнь твою лишили. Так воздай богу богово! Укуси не себя, — меня! зубьями в мою глотку сперва вцепись, а потом уж и руку свою грызи.
— Смотри, накарчешь!
— Нет! Он безропотно себя своей жизни лишит. Да еще и записку нацарапает, мол, извиняйте его, люди добрые, не виноватый ни в чем, и так далее.
— Дела-а…
— Наливай.
Буль-буль-буль…
— Смотри-ка, время-то!
— О-го!
— Давай, с Рожеством ужо, что ли.
— Како тако Рожество? — взвился Пахом. — Ишшо две недели до его!
— Это по твоему календарю две недели, — буркнул Ургеничус. — А у нас теперь вот, господи Иисусе.
— И тебя туда же.
— Ух.
— Уххх.
— Пресвятая Богородица…
6
Я отодвинул толстый рукав пальто.
— Надо же! И впрямь заполночь перевалило.
Праздник у людей!
Мы в такой день обычно зажигали свечку на столе и при ее колыханиях и помаргиваниях закусывали — настроение себе создавали. А потом долго-долго говорили, говорили, пока от слипания глаз по одному от стола не отваливались.
— Там, эта, в седьмой камере купчиха у тебя, — уже другим, помутневшим голосом, пролилось в коридор от Ургеничуса.
— Ну?
— Чё ну? Это… Ты ее сокамерницу, ну… эту.
— Старуху-гадалку?
— Ну ить, переведи куда на часок-другой.
— Чего, в гости сходить решил? — прыснул Пахом. — За сладеньким?
— Это нюхал?
— Шучу я! Шучу!
— А я — нет, — голос сильно посмурел. — Я второй раз не говорю, ты знаешь.
— Ты чего? На полном сурьезе, што ли, к ёй в гости собрался?
— Я похож на шутильника?
— Нет, но…
— Чего?
— Ты ж ёй третьего дни, — напомнил Пахом, — она кровью до сих пор харкает.
— То ж было по работе! — оправдывался Ургеничус. — Понимать надо!
— А теперь на чё?
— А теперь схожу, полечу раны. Я это, хлеба и сала возьму, да?
— Бери, — позволил Пахом и напомнил услужливо. — Тут в бутылке еще, — не досказал, спросил не к месту. — А ну как шум подымет?
— Не подымет! Я ж ей бока отшиб, не память. Помня о первом нашем свидании, покладистей будет.
Я чувствовал себя так, словно, подслушав, стал владельцем великой тайны или обладателем большого информационного повода, если говорить нашим, журналистским языком.
Служивые, потоптавшись, разошлись по своим углам, — кто чего удумал, тот за тем и отправился. А я, достав блокнот и выбрав место посветлее, принялся торопко записывать все, что тут услышал.
— Какой материал, — ликовало все во мне, — какой слог, какие характеры! Да это же бомба! Это почти что научное открытие! У них образования — дай бог, если по три класса на каждого, а любому профессору психологии фору на сто очков вперед дадут! Как точно они человеков изнутрев расковыряли, как ёмко разглядели и вслух высказали!
Дикий азарт захватил меня. Карандаш мой торопился описать каждую мелочь, каждую закавыку в их разговоре. Для удобства своего повествования дежурного по этому подвалу, Пахома, я в своих записях так и обозвал — Дежурный, а второго, с окровавленным животом и густо заросшими волосьями руками Ургеничуса — Молотобойцем. Я не подбирал специально ему клички, как-то само собой получилось. И ведь как точно! И описывать дальше его не надо, хватит тех черт, какие я уже тут ему приписал.
Я рисовал себе картину застолья и расписывал по ролям, кто что да как сказал, какое у него выражение лица было, какой жест и по какому поводу выкинут. Этого я, конечно же, не мог видеть глазами, но по сказанным словам предугадывал, а где и чувствовал интонацию или порыв воздуха.
Проверяя — складно ли получилось, вносил правки, дополнял, делал строку сильнее и объемней. Уже мысленно представлял, как читать в редакции буду — с выражением, с интонациями этих двух простолюдинов. А они будут сидеть круг меня с раскрытыми ртами, а их папироски подымят-подымят оставлено, да и затухнут за ненадобностью. Меня насквозь пронзили такие речи, а я свою пишущую братию напрочь убью, прямым попаданием в их интеллигентские кастрированные сермяжной правдой мозги.
«…добровольно на заклание идут»…
«заранее за все, даже за то, что делом не делали и об чем мыслью не думали — за все отвечать головой готовы»…
И еще.
«…прощения просить готовы только за то, что нам их допрашивать, бить, убивать в трудах работных приходится»…
«…нет, чтобы зараз все взяли и разом же сгинули, а потом бы встали, сами себя в землю закопали и исчезли, как их и не было вовсе»…
История пленила меня, карандашом я не успевал за потоком мыслей. Я даже пошел дальше этого разговора и попытался понять, что же имел в виду Молотобоец, когда сетовал на то, что никчемный народец ничему не противится.
— Почему его, кровно заинтересованного в непротивлении, это непротивление как раз и пугает?
— Ну чего надо-ть? Лови, карай, казни самонапридуманным судом — с тебя какой спрос, к тебе какая претензия? Ты — маленькая пешка, двунадесятый винтик в большом колесе бронированного паровоза, несущегося по просторам Руссии и давящего всё без разбору, лишь бы кому-то что-то местами даже лучше было.
Ан, нет! И у этого винтика в голове еще что-то шевелится, и в ём непонятка живет — для ча?
Он, любой, будучи живым оставленный, если его к какому делу приставить, мог бы чего-то и для мировой революции пользительного сделать, и паровозу бы, скажем, помог, деток бы новых еще настругал. Нужны ведь нам детки? Мы ж всерьез и надолго?!
Эк, куда его, Молотобойца моего, занесло-то.
По моим думам получалось, что он уже наперед себя видит на месте тех, кого ноне тут держит и собственным своим отчаянием кроваво пытает.
Все просто. Жизнь тяжелая и голодная. Мало в ней места для радостей осталось, больше для злости, черноты и обиды. Наобещано за два десятка лет вона сколько, и, вроде, все красиво да с пользой задумано. А не получается что-то по словам ихним. Вот и ищут оправдание своей неловкости.
Кто-то же виноват?
На кого-то же надо свалить вину за неудачи?
Вот он, есть! придуманный образ общего врага. Вон их сколько не нашего семени всходов на поверхности разбросано: с происхождением не тем, с ученостью излишней, с головой, полной неправильных дум. Бери — не хочу! Хватай каждого третьего или там пятого, и не ошибешься. А и ошибешься, не велика беда, никто с тебя за промах твой не спросит, пальчиком не погрозит.
До сих пор мысли эти правильные, под жизненный момент подстроенные.
А ну как кончатся они, такие — удобные?
Проснулись в один светлый день, глянь, а всех этих-таких уже извели?
За кого браться?
На ком никчемность свою утверждать?
В коридоре служивые пьяно шарагатились, о чем-то лениво переговариваясь, менялись согретыми местами. Молотобоец сидел-отдыхал в дежурке, воя себе под нос какую-то неясную песню, а Дежурный ходил в седьмую камеру, чужие раны своим голодным эгоизмом зализывать.
Все это проходило мимо меня.
Уже светать за окном стало, послышался раздвигающий снег надсадный машинный гул, пару раз громыхнул трамвай, а я все писал и писал.
— Вот спасибо редактору, — параллельно писаному скользила моя мысль. — Осенило его, что ли? — меня сюда послал! Да за такой материал я не токмо ночь тут провести готов, а и день прокантоваться! Проставлюсь! Как пить дать, проставлюсь! Всех напою, за мной не заржавеет.
Между делом, не помня когда, сжевал весь хлеб и допил ту бурду, что чаем звалась. А потом и из первой кружки остатнее глотнул, которое мелом противным отдавало.
Кажись, все записал.
Дальше пошли уже мои размышлизмы. И вот на них я начал запинаться. Связного рассказа никак не получалось. Здесь кропотливая работа нужна, особый настрой для глубокого ковыряния. А еще б лучшее, если б кто-то из коллег-бродяг-писак глянул, да слово-другое умное подсказал-подправил.
Я, имея опыт в этом деле, не спасовал, не сбросил в сердцах карандаш, начал рисовать в блокнот урывки мыслей, черточки коротких фраз, даже пятна одиночных емких слов. Знаю, потом, переписывая раз за разом, не только оживлю в памяти всю картинку, но и непременно увижу ее и под новым углом, и в ином свете. И тогда уже точно ничего не упущу, в каждый уголок сознания залезу, каждое случайное слово к строке пристрою.
Иссяк.
А и ну как! Сколь страниц извел!
Да и спал совсем ничего… хотя, нет, спал-то я, вроде и порядком.
Но что-то опять в сон клонит.
Какое-то звериное чутье во мне сработало. Как при пьянке, — хоть глоток на дне, но оставить на утрешную опохмелку.
Я вынул через скрепки из блокнота все исписанные листы, — мой трудяга-блокнот стался на две трети полным, — и засунул их ровным слоем под воротник. Там у меня дырка специальная в шве — заначку от Симы прятать. Под мехом, не знаючи моего секрета, так и не сыщешь, даже и не ущупаешь.
Повалился на шконку, положил голову на так греющие меня листочки моей будущей литературной славы и провалился в сон.
Глава 2 Жизнь Матфея
1
Пробуждение мое было очень тяжелым. Словно мозг потихоньку открывал глаза и чего-то там выглядывал, а все тело, отделенное от меня, продолжало спать глубоким сном.
Попробовал шевелить руками и ногами — импульсы-команды к телу шли неимоверно долго, через полосу препятствий, а руки и ноги, получив их, саботировали, не слушались, отворачивались к стенке и опять погружались в негу.
Но мозг жил.
— С чего так со мной? Я не меньше двух суток в рот не брал. Вчера похмелья уже не было, а сегодня откуда-то наехало? Да, постой-ка, это и не похмелье вовсе. Это что-то другое.
Болезнь? Какая?
— Надо позвать кого-нибудь! — догадался я. Но голоса во мне не было, а был какой-то сип. Я сам еле слышал его, где уж за дверью догадаться?
Попробовал встать со шконки, но только тряпишно перевалился мешком с картошкой на пол.
Полежав, собрал от каждой части тела данью немного сил, прополз пару шагов.
Опять полежал, опять, как капли во время дождя собираются в подставленные ладони, и я скопил еще немного жидкой силы, и неумело расплескал ее по полу.
Но стал еще на шаг ближе к столу.
Магнитом цепляла взгляд алюминиевая кружка с измятыми боками. Я полз к ней, я носом чуял запах воды, и ничего более не существовало для меня: ни странность моей болезни, ни случайность этой камеры — только глоток воды, пусть противно-теплой, пусть с мелом или из придорожной лужи. В этой кружке моя жизнь, мои мысли и моя сила.
Каждая новая остановка была длиннее предыдущей, а каждый следующий бросок вперед — короче.
— Как хорошо, что табурет заделан в пол.
Я дотянулся до его остробокой ножки, поймал холодное железо и потянул.
Табурет подполз ко мне на полступни.
Отдышался, еще потянул.
И опять он немного подполз ко мне.
— Стоп! Как я смотрю? Куда он пополз? Это я ползу, точнее — скольжу по бетонному полу! Упираюсь локтем и пробую подняться.
Моя рука тянется вверх до боли в сухожилии, до судорог в пальцах. Сейчас, только бы не расплескать, только бы там что-то было!
Накаркал…
Вытолкнув из себя руку, ногтем зацепил за верхний ободок кружки и она, качнувшись, медленно завалилась на бок и покатилась, пока не ударилась ручкой о столешницу.
Скользкая вода, журча тоненькой струйкой, полилась на меня.
Я вертелся ленивой змеей, уходил с ее дороги, — пусть лучше льется на пол, чем на мое пальто. С пола я ее слижу! Вот так, упав мордой вниз, всасываю расплющенными по бетону пересохшими губами замешанную на грязи воду, заползаю в неровности бетона языком.
— Давай, давай, еще хоть столько же, хоть полстолька, да хоть на глоточек, язык намочить!
Я — охотник. Мой рот раскрыт, язык в состоянии полной готовности. Да вот только поживиться нам больше нечем. Редкая капля со свистом пролетит вниз и, разбившись на тысячи пылевых брызг, потеряется в шероховатости бетона. А я провожу ее взглядом и замру в ожидании пролета следующей.
Мне хотелось плакать от обиды, мне хотелось выть волком. И я плакал, и я выл, только никто, даже я сам — не слышали этого воя.
В следующий раз я проснулся и нашел себя лежащим на бетонном полу.
Легко встал.
За окном густая темнота. В коридоре, напротив моей двери, горит лампочка. На столе кружка, полная темной жидкости, два куска белого хлеба и глубокая миска с густой кашей.
Включилось соображение, и сразу же наметились поступки.
Первое — надо вызвать кого-то из стражей и выяснить, долго еще мне ждать?
Второе. Посмотреть, который час и уточнить, какой день.
Что за каша в миске?
Как-то само по себе получилось, что я начал с каши. Я даже не понял, из чего она была? Просвистело вместе с хлебом и чаем.
Каши было много, и мой живот натянулся приятной полнотой, тормозя мысли и движения.
Часы показывали без четверти десять.
Вечер.
Должно быть двадцать седьмое.
Я здесь больше суток, и начальник, сам пригласив меня, ну, не конкретно меня, а кого-то из редакции, не может найти время встретиться со мной!
Надо идти домой.
Пусть завтра сам договаривается с редактором и повторно назначает встречу на конкретное время.
— Так он и назначал конкретное время, — вспоминаю я вчерашние события и тут же нахожу себе оправдание. — Я полтора суток его тут ждал. Будем считать, что мы квиты. Вина за опоздание полностью искуплена.
Встал, запахнул полы пальто и шагнул к двери. Занес кулак, чтобы ударить по железу, и не успел. Щелкнул засов, двери приветливо распахнулась на всю свою возможную ширину.
Я стоял нос в нос с Молотобойцем.
Он был в опрятной гимнастерке и в новенькой фуражке — синий верх, малиновый околышек. Лицо его пыталось улыбаться.
— Повечеряли? — спросил он радушно, кивая на пустую миску.
— Да, спасибо, — я был обезоружен таким культурным обращением.
— Курить не желаете? — на его огромной ладони лежала нераспечатанная пачка папирос. Моих, какие я всегда курю. Сверху краснел серным боком новенький коробок спичек.
— Благодарю, — вытекло из меня. — А…
— Начальство два раза до вас приходило, — читая мои мысли, улыбчиво поведал он. — Вы так сладко почивали, что оне будить не велели. И нам от их еще попало, — по секрету, на ушко, как своему близкому приятелю, шепнул он.
— За что? — невольно вырвалось у меня.
— Шумели тут малость, — виновато и вместе с тем озорно почесал он пятерней загривок.
Я отказывался понимать, что такое вокруг меня происходит.
— Дежурный побежал наверх, докладывать, что вы проснулись, — еще больше озадачил меня Молотобоец. — Помыться пока не желаете?
— Чего?
— Тут у нас маленький душ имеется, в ведерке горячей воды для вас вскипятили. Там и полотенце есть, и мыло. Не угодно ли?
Я дернул себя за мочку уха, больно и резко. Но видение не исчезло, а, отступив на шаг, плавным движением руки пригласило пройти в закуток.
Допрежь я видел из этого закутка только угол стола и край скамьи. Сейчас же мог зреть все полностью. Просторное помещение, длинный стол, за которым враз могли спокойно уместиться человек десять, в стене две нешироких окрашенных двери, промеж ними эмалированная в щербинах сколов раковина и медный кран для воды. Одна дверь чуть приоткрыта. Там уборная. К другой подвел меня Молотобоец.
— Лишнюю одёжу можете здесь снять, — показал на лавку и, заметив мой растерянный взгляд, успокоил. — У нас тут чужих нет, воровать некому, — и распахнул широко дверь в помывочную.
Мое замешательство он расценил по своему, бессвязно покрутил руками, потом махнул правой и ушел, оставив меня в закутке помещения и в неразберихе моих дум.
Я заглянул в помывочную.
Табурет, некрашеная скамья, кусок мыла в мыльнице, мочальная вихотка на гвозде и рожок душа. Из его перевернутого гриба падали, посвистывая, скучные крупные капли.
На табурете большое цинковое ведро с дымящейся водой. На скамье потемневший от времени тоже цинковый таз с одной оставшейся в живых дугообразной ручкой и полулитровая кружка вместо ковша.
Даже сквозь одежду я чувствовал, насколько грязно мое немытое тело.
Я боялся, что наваждение пройдет, и я не успею воспользоваться случайным подарком. Быстро освободил свое туловище от одежды и на цыпочках вошел в сырую клетушку. Намыливался, шоркал себя вихоткой до одури, дважды смывал мыло и использовал всю горячую воду, которую, может быть, не на меня одного грели. А потом еще стоял под обжигающей струей ледяной воды, пока лоб и темя не заломило от холода и не раскололо на части.
Когда вышел, глазами уперся в лежавшие на столе две книги, свежую газету, полную кружку дымящегося ароматного чая, пряник на тарелке и посыпанные маком бублики.
Все это богатство не могло прийти само по себе. Но человека, принесшего это, рядом не было.
Настроение мое приходило в соответствие с обстановкой. Я правильно понял, что это все для меня, и даже замурлыкал под нос.
Видимо, теперь служивым объяснили, кто я есть и зачем здесь, и они отдавали мне должное. Хотя, честно говоря, мне совсем не за что было предъявлять им какие ни то претензии. Наоборот, вспоминая о листах, спрятанных в моем воротнике, я даже был им благодарен. Но говорить об этом вслух не стоит. Так, на всякий случай, помолчим.
2
После такой помывки одеть бы чистое.
Морщась, я натянул трусы, майку, сунул ноги в пахнущие ядреным потом носки. Остальное оделось легко. И сел к столу.
Первым делом профессионально, по диагонали, просмотрел газету. Наша, «Пролетарская мысль».
На механическом заводе… на металлургическом… в кинотеатре… поступило в продажу… развелись… будет встреча… рождественские гуляния на площади… детские утренники в дни каникул… продам козу с козленком…
Я три дня точно не был в редакции с этой по… гулянкой, и, по такой причине, упустил часть информации. Вообще-то шеф нас гоняет, заставляет не только выдавать строки, но и смотреть с критической точки зрения материалы коллег. Может запросто спросить, поймав где-нибудь в коридоре, — а что ты скажешь о статье того-то или того-то?! И попробуй, скажи, что не читал! У него фонд есть, каждый месяц то одному, то другому понемногу к оплате подкидывает; мужик щедрый, никогда не жмется, себе не тянет. Не то, что в Свердловске было! А поймает один раз на «неуважении» — так он это называет, — и считай, в свой месяц ты пролетел, соси лапу. И даже за авансом внеплановым не подходи и хорошую, скусную тему другому может отдать.
Ну, его понять можно. С него наверху за каждый номер газеты жилы тянут. А он с нас только в половину от ихнего стружки спускает, как буфер, себе все шишки.
Чай действительно был хорош. Я осилил и пряник, и половину бубликов. Рука потянулась к книгам.
Первая оказалась учебником «Маркшейдерское дело». Вторая поближе. «Жизнь Матвея Кожемякина». Наверное, это все, что нашлось у них тут, и они от души, щедро вывалили на мой стол.
Я как-то не очень люблю этого автора, но выбора у меня мало. По крайней мере, из этих двух «жизнь» как-то интереснее, чем «дело».
Не стал заморачиваться, мне ж только время убить, пока начальство не придет. Без суеты распаковал пачку папирос, прикурил, всасывая в сытое нутро горячий дым, открыл наугад страницу в середине книги и попробовал читать.
«- Брось ты эту блажь, купец! Ведь коли обвенчаюсь я с тобой — через неделю за косы таскать будешь и сапогом в живот бить, а я и так скоро помру. Лучше налей-ка рюмочку!
Выпив, она становилась бледной, яростно таращила глаза и пела всегда одну и ту же противную песню:
Ды-ля чи-иво беречься мине?
Веткин был ответ, —
И я вуже иссохшая-а-а…
— Брось, пожалуйста! — уговаривал он. — Что я, плакать к тебе пришел?..»
Я ругнул себя за то, что на неудачном месте раскрыл. Тут читать — совсем непонятно об чем. Я пошнырял глазами по странице и сам собой возник интерес узнать сначала про историю события.
Я наслюнявил палец и залистал сюжет в обратную сторону, смотря в страницы и ища, за что бы зацепиться глазам.
«…Сегодня актерку хоронили, из тех, что представляют с разрешения начальства в пожарном сарае. Померла она еще четвертого дня, изойдя кровью от неизвестной причины, а говорят — от побоев. В покров была жива, я ее видел, играла она благородную женщину, и было скучно сначала, а потом страшно стало, когда ее воин, в пожарной каске из картона, за волосья схватил и, для вида, проколол ножом. Воин этот будто муж ее и все выл дико, а она высокая, худущая, и голос хриплый».
Я остановил чтение и надолго впал в ступор. Потом, подчиняясь какой-то неосознанной силе, вновь впился глазами в страницу и, смакуя, слово за словом, еще раз перечел абзац.
«…актерку хоронили»…
— Боже! Как сказано! актерку, не актрису! И сразу за этими двумя словами, обозначающими вообще-то одно и то же лицо, увидел огромную разницу и в статусе ее, и в таланте, и в месте, которое она сумела себе отстоять. А вернее, не сумела ничего себе отстоять. И стало мне грустно за нее, и по-родному жалко.
«…с разрешения начальства в пожарном сарае»…
И вновь хоровод дум. Убогость и попытка добиться хоть какого-то выживания, странность единения на одной книжной сцене захламленного пожарного сарая с высоким театральным слогом.
«…изойдя кровью от неизвестной причины, а говорят — от побоев»…
Этот абзац из четырех коротких предложений я смаковал, перекатывая во рту языком, минут двадцать. Разбирал целое предложение и делил его на вкусные слова. И понимал, как много здесь вместилось, как густо сказано и каким великим может быть простое маленькое слово, если его поставить в выверенный ряд вместе с простыми же, но очень правильными и единственно нужными словами.
А потом захлопнул книгу и трепетно прижал ее обеими руками к груди, почти что к шее. Мне сильно-сильно захотелось вместить в себя ее всю, каждое ее предложение, каждую ее букву, и ту густоту слов и насыщенность мыслей. И поразился я — почему же я, пользуясь теми же самыми словами, теми же самыми знаками, скольжу только по верхушкам, не попадая вовнутрь, не выворачиваясь наизнанку? Что во мне не так? Чему я не научен?
Я и хотел читать дальше, хотел наслаждаться еще и еще, но боялся утонуть в этой глубизне, боялся, что мое размягченное сердце не выдержит такого счастья и такой мощности.
«…обвенчаюсь я с тобой — через неделю за косы таскать будешь и сапогом в живот бить, а я и так скоро помру».
Пело в моих ушах, и я заплакал.
Заплакал от счастья, как будто я нашел свою любовь и теперь точно знал — до конца дней своих не расстанусь с ней. Даже если она охладеет ко мне, не беда. Главное, что я к ней никогда не остыну.
Далеко заполночь я вдруг опамятовал.
Где нахожусь-то?
Бережно закрыл книгу обеими руками, погладил ее, как кошечку по шерстке, и пошел обсмотреться по гулкому коридору.
Из каждого закутка, из-за каждой двери сочилась колющая память вчерашних стонов и боли. От этого страха я старался держаться середины пространства, будто кто-то может вскинуть невидимую руку и утащить меня в крикливое нутро, и ускорил работу своих ног.
В дежурке не было ни самого Дежурного, ни моего Молотобойца. Я обшагал и левый коридор, и правый — везде пусто. Словно на всем свете я остался в единственном сохранившемся количестве.
Дверь, через которую меня ввели в эти катакомбы, была приоткрыта. Я мог собраться и уйти в нее, некому было чинить препятствий. Но книга, всей силой своих страниц, позвала меня, и я пришел на зов.
И погрузился в ее объятья.
И стал медленно и сладко разбухать ее мозговой силой.
А потом во мне не осталось места даже для самого маленького предложения, даже самое короткое слово некуда было втиснуть, и я судорожно принялся освобождать головное пространство, изливать из себя сгустки окровавленных фраз.
Я другими глазами услышал вчерашний разговор Дежурного и Молотобойца и другими, более вместительными словами описал его.
Если в первых моих листочках, согретых воротником, был близкий к истинному ходу словесный пересказ их речей, то в этих записях из меня вытекал не набор слов и строк, вытекала живая картинка. Я каким-то неведомым мне образом с поверхности текста провалился в его нутро, и те же самые слова теперь неведомой силой встали с плоской страницы во весь рост и забугрились, создавая подвижный рельеф. Он, даже сотворенный простым грифельным карандашом, был стоцветным и дышал.
Я смотрел на свой рассказ, радовался его объемам, но пока еще не понимал — чем же он, нонешний, в смысле исполнения, отличается от вчерашнего? То, что отличается, тут и к бабке-гадалке ходить не надо. Но получился он не оттого, что я осмысленно подбирал ему каждое новое слово, а оттого, что моя распухшая голова самопроизвольно выбрасывала гнетущие ее слова.
Я был где-то на пороге понимания.
Как в детстве, баландаясь в реке у старого моста, я осознанно не лез в глубину, спасаемый от гибели неумением плавать. Не предпринимая никаких попыток научиться этому простому действу, я, видимо, внутренне зрел, пока однажды, не подначиваемый сверстниками, ни ради бахвальства или от дразнилок, спокойно и уверенно оттолкнулся от песчаного дна и преодолел этот маленький треугольник страха.
И поплыл.
Как?
Где эта черта, когда секунду назад еще не мог, а теперь вот могу.
Плыть могу, а объяснить — как? — не могу.
3
В моем блокноте закончились свободные от мыслей листы.
Оказаться без бумаги в этом моем пребывании хуже, чем остаться без папирос. Я не смогу спать, я не смогу читать, я даже курить и пить не смогу, пока не выплесну из себя всю бурлящую во мне мозговую кашу. Но паника не успела свить во мне даже маленького гнездышка. Я вспомнил — в комнатке у Дежурного на столе лежала пачка желтой газетной бумаги и такой же, как у меня, блокнот, в скрепку, с синей картонкой-обложкой.
Только сейчас заметил, что свет везде погас, и лишь над моей головой слабо помаргивала из последних сил маловаттная худющая лампочка.
Я вышагнул в кромешную тьму коридора и уперся лбом в опустившийся потолок. Пробираться можно было только на четвереньках.
Мои руки погрузились в липкую смесь крови и боли, при каждом нажатии из-под колен выползали всхлипы рыданий. Коридор сжался до размеров трубы, и мне невозможно было в нем развернуться и даже пятиться назад. Я полз и полз, чисто интуитивно поворачивая направо или налево. И труба коридора, мягкая и послушная, повторяла мои движения.
Дверь в дежурку была открыта на ширину ладони и заставлена изнутри какой-то мебелью. Упирался в нее плечом, вбивался с разбега — ее как заклинило, только пружинистые вздохи и железное гудение отскакивало в меня. Но сдаваться я не собирался. Там блокнот, там спасительная бумага — только они смогут снять разрывающее мою голову давление емких слов.
Я упал на пол и полез вовнутрь. Я вворачивался в эту узкую щель, плющился. Рука моя, и плечо были уже там, а голова, мало того, что распухла многими мыслями, еще и ощетинилась ставшими проволокой волосами и шкрябала старую краску, пружинила упругим черепом. Я тянулся из последних сил. Рука, оставив меня в борьбе с косяком, уползла вперед и в тот момент, когда и уши мои пролезли в щель, и осталось только ухватить себя за волосья и вдернуть вовнутрь, рука отыскала блокнот и победно поднесла его мне.
Возвращался я другой дорогой. Сначала это были склизкие ступени, потом труба резко ушла вниз, и я покатился по ее желобу, как по снежной горке, с захватыванием духа и свистом воздуха в ушах. Потолок, раздуваясь, поднялся вверх, и я смог встать в полный рост. Следующий мой шаг в неизвестность неожиданно привел меня в мой закуток, где повеселевшая моим возвращением лампочка засветила ярко, даже солнечно.
Я с сомнением огляделся. По всем моим расчетам и способностям к ориентированию в незнакомой местности, я должен был находиться по меньшей мере в другом доме или в другом подвале, далеко от места моего стояния. Но я был точно там, откуда не так давно ушел..
На столе дымился в той же кружке чай, на знакомой тарелке глазурно лыбились розовые пряники. Папироса, которую я оставил после первой затяжки, не потухла, не сгорела, лежала, девственно пуская к потолку белесую шерстяную ниточку дыма.
А я пустился во все тяжкие. Карандаш мой оставлял следы на бумаге, плотно истаптывая ее пятнами-шагами, измарывал и перебегал к следующему.
Страницы, как тесто, поднимались и заполняли стол, пока что-то закончилось.
Бумага?
Марательные силы у карандаша?
Или вспухлость моей головы?
Я прятал исписанные листы под пышный воротник, укладывая их один на другой. Листы кочевряжились. Они не собирались просто ложиться друг на друга, дыбились рельефом записанных на них чувств, и мой воротник стал похож на подстреленную лису: уже неживую, но еще теплую. Я уминал руками спрятанные в ее утробе слова, придавливал коленкой. Лиса смеялась надо мной. Она послушно проминалась в одном месте и тут же вздыбивалась в другом.
Я обессилел и потерял стимулы для борьбы. Видимо, воротнику нужно было время, чтобы переварить проглоченные слова и мысли.
Свет в лампочке окровянел, закуток стал наполняться сапфировым туманом.
Из крана потекла вода.
Я повернулся на ее веселое журчание и яркая вспышка брызнула болью в мои глаза.
4
Я опять проснулся от душераздирающего крика.
Крик был таким вязким, что ни стены, ни запертая дверь не могли спасти меня от его присутствия. Новым в моих ощущениях было то, что к нему примешивался вкус крови и сотрясения тела в такт ритмичной работы парового молота.
Каким-то седьмым чувством я улавливал знакомые нотки в этом голосе — где-то я слышал уже его, и слышал совсем недавно! Я закрывал уши, сжимал до скрипа зубы, чтобы убежать от воплей, но они пробивались даже через мех шапки. У крика проявилось неожиданное свойство — он проходил не только через барабанные перепонки, но и просачивался сквозь оголенную кожу лица и рук. К моему сожалению, в этот раз я был сыт и желудок мой, выворачиваемый наизнанку чужой болью, пару раз отрыгнул. И каша, и чай с пряниками склизкой массой растеклись под ногами.
А потом, мне показалось, — кто-то захватил жесткими пальцами мой язык и потянул за него. Моя голова послушно подалась следом, но свободный ход ее был ограничен защемленным между табуретом и столом телом. И когда язык натянулся до болевого спазма в горле, последовал хлесткий удар раскрытой ладонью снизу по челюсти.
Мозг мгновенно пронзила молния боли, а рот наполнился солоноватой кровью. Язык в малую минуту вспух и, чтобы не потерять способности дышать, я разжал зубы до хруста. Кровь, смешанная со слюной, потекла масляно-липкой нитью по моему подбородку и тяжелыми каплями ударяла в живот.
Теперь чужой крик больше не донимал.
В черноте маленького помещения появился микроскопический просвет в думах, достаточный, чтобы понять — били на этот раз меня.
— Бум-м-м, бум-м-м.
Я не помнил, когда с меня сняли пальто, шапку, пиджак и даже ботинки. Ноги в носках стояли на холодном бетоне пола, через ступни в меня втекала энергия земли. Я ощущал этот ток икрами, костями — отрезвляющий и спасительный, и подпитывался им.
— Бум-м-м, бум-м-м.
Я уже не кричал, а густо выбрасывал из своего нутра хакающие порции дыхания. Удары были методически запрограммированными, с расчетной силой и точками приложения. На второй или третьей минуте я уже знал распорядок — сейчас ударят сюда, теперь сюда, а потом и сюда. И опять по тому же кругу.
Крик горловой перекрывал прокушенный язык. Но он никуда не делся. Вместо того, чтобы утекать в пространство камер и коридоров и растворяться в нем, крик собирался во мне и раздувал меня, особо извращенной болью накапливаясь в затылочной части. Я уже ждал и просил, пусть кости черепа разойдутся хоть до малой трещинки и стравят избыточное давление. Но череп мой не спешил трескаться. А тот, кто наносил удары, видимо, точно знал, как усилить страдания, не спешил помогать мне — по голове не бил.
Наступил момент, когда во мне уже не осталось ни капельки свободного места, мозг мой пронзила острая и длинная боль, и я перестал что-либо ощущать…
Я лежал на шконке, на левом боку. Распухший язык мой свешивался вниз, слюнявя воротник рубашки. Все моё тело стонало глубокой нутряной болью. Те мелкие глотки воздуха, которыми удавалось дышать мне, разрывали легкие, кололи в животе, но особенно остро чувствовал я низ живота в зоне поясницы.
Вот оно — мастерство палача! Не так страшно само избиение, как его последствия. Я был и сжат в комок, и максимально расслаблен. Этакий бескостный студень после хорошей выварки. Если и были какие-то думы, я до них еще не дорос. Взгляду моему некуда было идти из-за сомкнутых век, и я блуждал глазами внутри себя, выглядывал — есть ли во мне еще хоть что-то кроме бесконечной боли.
В конце июля мы с Фимой ездили к ее родителям в маленький рабочий поселок с коротким названием Куса. Фима говорила, что название от одноименной речки пошло. Как раз на высоком берегу этой речки стояла церковь, а наискосок и родительский дом.
Поехали мы не просто в гости, — я взял на работе три дня, Фима тоже у себя отпросилась, и отправились мы покосничать.
Я первый раз дневал и ночевал в такой лесу. Нет, лес-то мне сам по себе знаком, не в тундре или там в пустыне вырос. Но такой! Самая настоящая тайга! Сосны прямо корабельного строения высятся до облаков. И до самой верхушки на стволах ни сучков, ни веток — стрела-стрелой — пили под корень и сразу мачтой ставь да паруса пристегивай. А и смотришь скрозь эти столбы-мачты в небо, задрав голову до хруста в шейных позвонках, и кажется, что ты уже и не на земле, ты плывешь. И держаться рукой за ствол надо, не то завалишься. Фима хитрее, — она в таких местах сызмальства произрастала, — упадет в папоротник, руки в стороны раскинет и лежит: улыбка на лице застыла, рот полуоткрыт, а глаза, как два огромных круга, летучие облака провожают.
А понизу в зарослях папоротника и подлесок, и ягоды-костяники ало-красные пятна густо набросаны. Любой овражек, родник или ручеек — и вот уже липа, черемуха, рябиновые полосы.
А воздух!
Как-то в этом частоколе дерев люди находили полянки для покоса. И мы, обиходив один клочок с травой, шагали напрямки к другому, который вдруг выныривал из-за кустов и покачивал волнами-травой в красных, розовых, сиреневых цветках. Тут и золотые пятилистники зверобоя, и синие гроздья душицы, цельными полянками белые медовые шапочки лабазника, щекотливая черемша и скусная сочная саранка.
В такую траву упасть бы, зарыться с головой и вкушать ее пряные запахи, и слышать, как пузатый шмель, перебираясь с бутона на бутон, сопит своим хоботком и урчит довольно и сытно.
С самого подъема солнца, по колкой росе и звонкому стрекоту кузнечиков, махали мы в унисон косами, укладывая веселыми валками богатое разнотравье. Перемерили шагами несчетное число рядков и обкосив с десяток раздольных полянок, а потом припадали к стеклянному чистотой ключику и тянули жаркими губами остужающую и оживляющую воду.
Как сейчас перед глазами — пил-пил, открыл глаза, а перед собой, как в серебряном зеркале, вижу свое собственное отражение с веселыми искрящимися глазами, падающими со щек серебряными капельками. И черно-смоляного жука, ползущего по моим слипшимся от пота волосам.
Вода была особенной. Сколько бы ее ни выпил, она не отягчала желудка, не вставала комом в горле.
Эх, сейчас бы глоток такой…
На столе — я более чувствовал, чем различал, стояла кружка, наполненная жидкостью. И наполненная до краев. Звериное чутье подсказывало мне направление к воде. Я бы не отказался сейчас от пары глотков, но полное равнодушие к себе и к своим потребностям не потревожило ни единой клеточки — податься навстречу желанию. Я попытался сосредоточиться на смутном порыве, расслабиться до такой степени, чтобы просочиться сквозь миллиметровые щели в досках шконки, потечь по бетонке и затеряться в стыках плит…
Когда я в очередной раз выпал из забытья, боль выровнялась по всему телу, и острых ее очагов я уже не ощущал.
5
Я смог подняться и дойти до стола.
Вода!
Я долго пил ее маленькими глотками, пока она не стала переполнять меня, скапливаясь где-то под ушной раковиной. Покрутив шеей, я утрамбовал ее немного, но дальше пить не стал — хватит.
А вот для изорванного в крошки хлеба прохода в горле не нашлось, опухший язык мешал. И тут отыскался выход. Я размачивал эти крошки, захватив каждую двумя перстами, и отправлял в самое глубокое нутро, туда, где начинался мой онемевший язык.
— Время? — лениво прокрутилось в голове и тут же само себе ответило. — А на чё?
— Закурить бы…
Вот это более полезная дума. Задурманить густым дымом мозги, погрузиться в туман.
Карманы мои были пусты.
Ни спичек, ни папирос.
Исчезли и «Жизнь Матфея Кожемякина», и деньги с часами. Только воротник скомканного пальто еще дыбился спрятанными в нем мыслями, да карандаш с блокнотом лежали неприкаянно там, куда я их намедни перед засыпанием сдвинул.
И я обрадовался.
— Вот, дурья башка!
Забрали все, вытрясли карманы, побили не за понюх табаку! Но щедро оставили мои мысли, выбитые мной на доверчивой бумаге. Какой мне толк от них тут? От папирос был бы, от часов был, от Матфея особливо был. А я, не отягчаясь большими потерями, радуюсь тому малому, что еще не ихнее.
И пустой бумаге!
Я, не осознавая своих поступков, взял с оглядкой блокнот и, поискав глазами, нашел для его укромное место. Сунул под ведро, которое мне нужником служило. И карандаш тут же приткнул — все сохраннее будет. Уж ежели они меня лишили моих вещей и денег — того, что представляет какую-то ценность, где гарантия, что вторым заходом и это не подчистят? Книгу-то, вон, забрали, а книга и вовсе не моя, книга ихняя, но и в ее присутствии в моей камере углядели какой-то вред для них, или пользу для меня.
Почему-то вдруг вспомнилась купчиха, про которую намедни судачили служивые.
Я представил себя на ее месте и в ее бабьей роли, и по-новому оценил вчерашний эпизод.
Что можно в таком состоянии прочувствовать?
Какое сладенькое способно дарить или получать истерзанное пытками тело, когда каждое твое даже не движение, а просто шевеление, взрывает туловище протестным бунтом?
* * *
Как-то я обидел Фиму.
Мою Фиму.
Мы всего и прожили тогда вместе с полгода, но уже накопили некоторый опыт портить кровь друг другу. Я выпячивал свое, она свое. Я, конечно, чаще, что тут скрывать. Да и годами постарше, думать должон за двоих. Но, вот, в очередной раз не сдержался.
К полуночи, лежа в общей кровати — а другого места у нас даже при ссорах нет, я решил загладить вину.
Не словами, инстинктами.
Пару раз до этого прокатывало, вот я и полез со своим мужским, перевернул ее на спину и пришел к ней. Ее напускное громкое дыхание, отвернутое от меня лицо, плотно сжатые губы громче любых слов трубили мне обо мне.
И я ушел ни с чем, оплеванный и наказанный, и до середины ночи поносил себя всякими словами, боясь и вздохнуть поглыбже, и шевельнуть хоть пальцем на ноге, как будто бы я помер. А и правда, в тот момент я и мечтал об этом — помереть и смыть с себя этакий обидный позор.
Она пришла спасти меня, обняла за шею и прижалась.
До солнечного света я целовал ее всю, кажный ноготок, кажную ямочку на коленке и под коленкой, я, как кошка с кутенка, собирал губами ее волглость, запах любимого тела, последние, самые малые крохи обиды и боли. А она милостиво разрешала мне замаливать свои грехи, отходила дыханием и изгибами тела и, наконец, позвала.
Простила…
Чего ж тогда в душах этих Ургеничусов и Пахомов живет-прячется, ежели они с разбитым туловищем купчихи играться готовы?
Или нет там никакой души?
Вымерла?
* * *
Скрежетнула дверь, откинулась железно кормушка, упали на раздаточный столик миска и кружка.
— Обед! — рявкнули за дверью и, встав вполоборота, затаились ожиданием.
— Мне ничего от них не надо, — шептал я. — Мне совсем ничего от таких не надо.
Мысли только-только пробуют обойти первые круги осознания.
Кормушка злобно захлопнулась. Но распахнулась массивная дверь, вытягивая в коридор густой прокислый воздух камеры.
Потянуло свежачком.
Что?
Зачем он открыл дверь?
Опять бить меня?
Но бить меня сейчас некуда, во мне не осталось ни одной живой клетки, ни одного чувственного места, разве что голова. Но голову пока не трогают.
Какой ему толк во мне таком?
Только силы свои зазря израсходует.
Я мертвяком лежал спиной к шагам и просто считал их: — раз-два-три-четыре, поставил, произведя соответствующие звуки, миску, двиганул ее; миска, крутясь, отползла. На ее место встала кружка, упал сверху кусок хлеба. Разворот на пятках и опять шаги: — раз-два-три-четыре.
Замок поставил на свое место надежную дверь, и в камере, защитившейся от этого страшного человека, враз стало больше простора для жизни. Теперь я не боялся выпускать наружу свои мысли — их некому считывать, а за дверь они, обессиленные, не утекут.
— Почто оне били меня?
Ужели я пропустил что-то важное, что было мною или мне сказано? Не можно же просто так, ни с того, ни с чего?
Память искала и не находила никакой зазубрины, за которую могла бы ухватиться.
— Сказал что-нибудь?
— А мне зачем? — в словах неприкрытое удивление. — Я и не спрашивал.
— Дык, а это? — оторопело поперхнулся вопросом Пахом. — Чё ты тогда?..
— Завтре у его свиданка со следователем. Вот я и готовлю мясо к разговору.
Перед моими глазами всплыл текст, который я грифельной кровью на листы рисовал.
О ком такими словами он говорил?
О неизвестном страдальце из соседней камеры?
Или вообще о всех безымянных, заживо здесь погребенных?
Можа, это у их как предупреждение — побили, поломали — жди свиданки?
— Думаешь, оклемается до утра?
— Утров на его жизни еще много будет, до какого-нить обязательно оклемается, — изобразил подобие смешка Ургеничус. — А и не оклемается, не велика потеря.
Похоже это на меня?
Подходит под меня?
Но я ж не арестованный!
Я здесь по заданию редакции!
Могли они перепутать и чужое мне щедростью своей отвесить?
— Так у тебя все, что ли, с этим?
— А чё, кто-то еще на очереди? — по-еврейски вопросом на вопрос отреагировал.
— Ну, есть.
— Энтот? — удар сапогом в мою дверь.
— Не-а, — лениво возразил, — напротив этого в журнале пока ничего не записано.
— Вот! Ничего не записано! Ни-че-го! Не записано… Но щедро отвешено.
Я вспомнил, как еще намедни меня обласкали уважением, покормили вкусной кашей и отпустили помыться. И успокоил себя маленькой надеждой.
Разберутся.
Как есть придут знающие начальники и поставят где надо жирные точки.
— А нам все равно, записано или нет.
— Ну, дык, понятное дело.
— Ё-моё! — охолодел я. — Напротив меня ничего не записано. Но я-то, выходит, там записан?
Как?
Кем?
На какой ляд?
Я не мог больше лежать. Все мое замученное естество всполошилось и заставляло усиленно искать объяснения.
— Что там записано, по какой графе? Почему я, сам и своими ногами пришедший сюда, должен быть записан в какой-то журнал?
6
Мелкой тряской задрожал жалкий свет в коридоре. В другой, не в моей и не в соседней камерах, заработал Молотобоец.
Удары, крики возмущения, опять удары, стоны…
Они не стеснялись присутствия чужого, то есть меня! Они просто не считали меня за свидетеля их страшных дел, открыто вершили свою изничтожающую работу. А я вслушивался в тучные звуки и, мелкотный, думал обнадежено — слава богу, не моя очередь, ко мне ноне не придут ужо.
Легче всего было находиться в позе эмбриона. Так я и спрятался под пальто, заняв самый мизерный клочок казенного места на шконке.
Выстроив глухую защиту от внешнего мира, я зацепился за одну удобную мне маленькую мыслишку и крутил ее.
— Вчера я был свободен. Не в том смысле, что я был на свободе, нет, я здесь был. Но был, помнится, совсем один. И даже двери все были нараспашку.
— Я же мог просто взять и уйти?
— Мог!
Не прощаясь — не друзья, все ж таки, и не спрашиваясь. И они сознательно давали мне такую возможность, коли уж двери засовами не запирали.
Что?
Что удержало меня?
Ведь, уйди я от них вчера, как Колобок уходил от Бабушки и от Дедушки, и не был бы так жестоко бит.
Струсил?
Да с чего ж это! Никакого страха во мне и не было. Откуда ему появиться?
В благородство сыграл?
С чего и перед кем?
Но ведь была же какая-то сила, которая удержала меня от побега и в финале сунула в шестеренки беспощадного колеса?
— Так и уродом исделают! — спохватился я, приподнимаясь.
Если им все равно, кто я, по какой такой надобности в этих казематах нахожусь, главное, что соответствую неписанным правилам: раз здесь, значит их, — надо исправлять положение. Оне же, не насытившись кровью и болью одного, можут вдругорядь ко мне завернуть! Я — что? Биться с ними буду? Противиться?
Пока я с любой стороны невиновный, нет на мне ни черной метки, ни пятнышка.
А ну как ударю его?
А он при исполнении.
Вот сразу и попал. У нас же как! Он тебя может смертным боем, даже, к примеру, на той же на улице, и с него как с гуся вода. «При исполнении!» А я его случайно пальцем, и вот уже кругом виновен. На государева человека покусился!
…У его руки свободные, у его ноги не связаны. Я перед ним так, шпендик. Ткнет кулаком в полсилы, и нет меня, соскребай со стены. А и этот молчит, и даже рожу свою защитить от моего кулака боится — как бы, значит, меня таким неуважением не обидеть…
Это ж он и про меня такую точность говорил!
Нет, надо что-то менять. Не мириться с глупостью, не взирать покорно на грубую ошибку. Раз он вчера признал во мне достойного человека, напомнить про то и отпроситься домой. Мол, «я все понимаю, осознал, претензиев никаких не имею. Завтрева дня как штык тут у вас буду и все про все, как вашему начальству надобно, пропишу».
Ночь, в полночь — какая разница — до дома мне пехом недалече топать, не заблужусь, не потеряюсь.
Ё-моё!
Я поймал себя на мысли, что говорю и думаю словами Ургеничусов и Пахомов. А где же мои-то слова? Где мои-то мысли? Что? Вот так вот запросто взяли и выбили из меня мое, человеческое, мною над землей с трудами приподнятое и опять бросили туда, в самый наинизший низ?
Кулаки вбивались в чье-то мясо и разжигали во мне протестное несмирение. Но я еще не крепко распалил себя и пока не был готов к поступку.
Собирая силы, присел на краешек досок, помогая руками удерживать равновесие, попробовал расправить плечи — плохо слушаются.
— Что же я, как тот скот, безропотно принимаю свое уничтожение? Я ж так последнего себя им на съедение отдам! Да что я — неуч какой? Что я — слова своего не имею? К закланию боровом откормленным иду! Я ж не просто так на земле этой, я ж к важному делу самой властью определен! Нужным звеном в общую цепь вставлен. Убрать меня никак нельзя. На мне вон сколь всего замкнуто, и здесь, в газете нашей, и там, в Челябе. Я ж не сам по себе тут, меня с области на усиление фронта информационной борьбы. Я ж линию партии, задачи построения освещаю!
Кто, как не я?
Да завтра, если там узнают, что тут со мной… да тут разнесут всех и вся! Никому мало не покажется!
Распаляя сам себя, я копил злобы и злости, набивал их в себя и, когда посчитал, что концентрация яда во мне достаточная, разом распрямил податливые плечи и грозно вспрыгнул во весь свой рост.
Встал, оделся во всю свою одёжу, даже пуговки пальто застегнул и шапку пригладил. И твердо пошел на дверь.
— Счас ты у меня получишь, — подбадривал себя и с силой заколошматил несгибаемым каблуком по гулкому железу.
Работа молота прекратилась.
— Ага! Услыхал, гад! — обрадовался я и с новой силой затиранил невинную дверь.
Звуки двигаемых щеколд и скрежет замков остановили мои труды, я развернулся к проему и, руки в карманы, надменным подбородком встретил вопросительный взгляд Молотобойца.
— Чего надо? — хмуро спросил он.
— Вэ-э-э-вэ, — требовательно замычал я, совсем позабыв, что прокушенный язык мой не в состоянии произносить внятных звуков и таким образом озвучивать мои к ним претензии.
— А, — кивнул Молотобоец, — понятно! Говорить не можешь.
— Вэ-э-э-вэ! — закивал ему я.
— Ты не надсажайся, — присоветовал он, жалеючи, — писать-то могёшь?
— Вэ-э-э!
— Сейчас бумагу принесу.
Он ушел, оставив меня стоящим перед распахнутой дверью.
Один шаг и я в коридоре. Еще несколько шагов и я в дежурке. Совсем рядом, почти на свободе, давай! — кричало во мне. Но ноги мои отказывались слушаться. Пока я боролся с этими желаниями, вернулся Ургеничус с листом бумаги и карандашом.
— Пиши, — коротко бросил и оставил на столе белое пятно бумаги.
Я торопко упал на табурет и крупными буквами вывел:
«Мне домой надо. Завтра к 9 утра я здесь буду, как и договаривались».
Ургеничус завороженно следил, как черные буквы расползались по чистому листу бумаги, покачивал большой головой и хмурил бровь.
Я оторвался от писанины, поднял все еще гордую голову и повернул лист к нему.
— Красиво пишешь, — похвалил он меня. — И, наверное, грамотно?
Я закивал ему и развел руками, что поделаешь, мол, работа такая.
— А я вот, — выпятил он нижнюю губу и виноватым голосом поведал мне, — читать только по печатному могу. А писать вообще ну никак.
Я кинулся исправлять ошибку и взялся за карандаш. По печатному? Так это нам запросто!
Но Молотобоец выдернул из-под моих рук лист, аккуратно свернул его надвое и удерживал уважительно в вытянутой ладони.
— Пойду, Пахому покажу, — сообщил услужливо. — Он в школу ходил, глядишь, поймет.
И опять ушел, оставив распахнутой мою дверь на волю и соблазн перешагнуть через порог. И я опять не воспользовался предоставленным случаем, только оторопело смотрел на границу между мной и миром, и даже мысли в голове перестали крутиться — замерзли.
Мои надзиратели будто проверяли меня этим испытанием. Стоят, небось, где-нибудь в невидном месте и подглядывают, и спорят еще промеж себя — ступит-не ступит?
Вот ведь какая тонкая человеческая загадка. Мы про них говорим — мол, низшие людишки, от самой от земли. А оне, может, от того, что от самой от земли, и природу-то мою и нутро моё по-звериному глыбже чуют? Я тут премудрости всякие строю, аналогии для их обозначения выискиваю, а Ургеничус давно про все наперед догадался — вчерась еще лупсовал меня, душу вытряхал, по живому калечил. А ноне вот улыбнулся открыто да ласковое слово пробросил — ты не надсажайся, — я и с охоткою забыл про все нехорошее, и впал в его простоватые объятия.
Кто я после всего этого в его глазах?
Выше его или ниже?
С его стороны точно уж — ниже.
Теперь пришел и услужливый Пахом — переводить меня Ургеничусу.
— Домой хочешь? — спросил участливо и даже улыбнулся на свой лад.
— Домой, — закивал я так, что чуть голову себе не отмотал.
— А чем же ему у нас плохо? — спросил Ургеничус у Пахома.
— Да, чем же тебе у нас плохо? — весело перевел Пахом, запамятовав, что у меня только язык нерабочий, а ухи все еще на месте и в полном здравии.
Я завэкал, помогая себе руками, но им мои помыслы донести не смог.
— Рожей не вышли, — по-своему перевел мои потуги Пахом.
Я приблизился к нему, поднял к его лицу обе руки, пытаясь вдолбить, что он неправильно меня понял. Показывал знаками, мол, бумагу давайте, я вам на бумаге напишу. Но не успел ничего растолковать.
Под левое подреберье вонзился огромный кулак Молотобойца. Увлекшись объяснениями с Пахомом, я совсем потерял из виду Ургеничуса и, само собой, пропустил момент его замаха.
Мои ботинки оторвало от пола и, когда я уже коснулся носками спасительного пола, новый удар согнул меня надвое.
— Рожей, вишь ли, мы ему не вышли, — сплюнул Пахом и пошел неторопко вон, напевая противным голосом угрюмую песню.
А не для чиво нам во чужи люди торопиться,
И-и-и жить у матушки с батькой харашшо.
А Молотобоец включил паровую машину на полный ход и колошматил меня молча и равнодушно.
Я упал на пол.
Он сильными руками выдернул меня из пальто, бросил животом на стол и выбивал из меня, как пыль из половиков, еще теплившееся сознание.
Пока я не улетел в страну густого непроглядного тумана.
Глава 3 Шагреневая кожа
1
Этим вечером Ургеничус выбил из меня последнюю веру в себя.
Теперь я знал — взывать к здравому смыслу в этих стенах бесполезно.
Бабушка моя в церкви стоит на коленях и просит Бога об одном, об другом. То хворь какую убрать просит, то урожая просит. Как ни придем — у нее всегда просьба найдется — то пятое, то десятое.
Я и спрашиваю:
— И что, дает?
— Кто?
— Ну, Бог этот твой, просишь у него каждый раз чего-ни то, а вот хоть раз он исполнил просьбу твою, сделал по-твоему?
Она долго шла и молчала, только губами мелко шамкала, слова нужные подбирая.
— Бог надежду дает и жизнь упрощает. Выросло — я и знаю — Бог дал. Не выросло — то ж знаю — Бог не дал. И вопросов у меня меньше, и злобы нет. На него ж не посердишься. Он вона как высоко сидит. Да и людев у его сколь по всей земле раскидано? Али хватит сил каждому его блажь выполнять? Но, надеюсь — и до меня, до моих просьбов время найдет. Так вот, милай!
Живи надеждой…
Та ошибка, которую Пахомы с Ургеничусами совершили, применив ко мне свои грязные методы или удовлетворив садистские наклонности, будет главным, удерживающим меня здесь обстоятельством. Выпустить меня — это все равно, что придать огласке творящиеся здесь беззакония.
Так я оценивал возникшую ситуацию.
Какие варианты возможны?
Для них?
Получить уверенность в моем молчании.
А для этого надо прекратить бить меня, дать затянуться моим ранам и замять как-то свои прегрешения.
Или?
Продолжать ломать еще сильнее, пока я не взмолюсь и не надаю им обещаний, или не напишу расписок, что сам упал, а к ним ничего, кроме благодарности не имею.
Или?
Моё исчезновение с лица земли?!
Ну, это уже крайность!
Что же мне в таком моем положении делать? Ждать милости? Или ждать естественной развязки?
Меня уже какой день в потоке жизни нет. И весточки от меня нет. Фима первая должна бы уж забить тревогу.
Но забьет ли? Заподозрит ли что-то?
Для нее я сейчас в Челябе. А там… Как только выбираюсь к друзьям, — на неделю, минимум, пьянка-гулянка. И, хоть я и обещал ей новый год вместе встретить, цену таким обещаниям все вокруг знают. Она ж не зря тут как-то обмолвилась, что в Кусу, наверное, съездит на праздники. А когда я спросил:
— А я как? Один тут останусь?
Улыбнулась горько и кинула обидно:
— А ты днями валяться будешь, или с друзьями в кабаке прогудишь. Ты и сам праздник не увидишь в пьяном угаре, и мне порадоваться не дашь.
Так. С этой стороны помощи ждать не стоит.
На работе? А то же самое. Я ж тут прикомандированный, вроде как временный, присланный свыше. Ну и… дисциплинка моя на должном уровне качается.
И здесь надежды никакой.
А в Челябе что?
Ну, обещался, ну, не приехал сейчас. Ясно дело, думают — запил. Оклемаюсь, буду жив-здоров да при копейке, прилечу.
И, выходит, куда ни кинь, везде клин. Сам себя своим поведением загнал в такой тупик.
А если я дам о себе весточку? Вот возьму и пропишу им, что со мной творится!
Так… кому написать первому?
Собратьям по перу.
Как тогда повернется?
Кинутся ли биться за меня?
Я оживился просвету в моем положении и ну перебирать в памяти прошедшее. Было ли у кого что-то подобное?
Было, как не быть.
Вон сколько из нашего и не только нашего круга людей попадают под перемалывающий жернов.
Сколько моих знакомых ушли врагами народа?
Сам себе пальцы загибаю и с каждым новым именем смурею больше и больше.
Хоть за одного из них я вступился? А?
Нет, сделал вид, что поверил обвинителям и не стал спорить с системой.
— М-м-м… — замотал я чугунной головой, вспоминая недавнее.
Только-только выпал первый снег и мы с Фимой бегали по нему, как маленькие дети, лепили снежки и хохотали до слез. Зима — всегда такая тягомотина с ее морозами, сковывающей одёжой, вечным неуютом не очень-то любима мною. Но это ощущение муторности зимы придет потом, к январю-февралю, а пока первый снег не менее ждан, чем мартовская капель и проталины вдоль накатанной санями дороги.
Вот мы и наслаждались по-детски этой чистотой и теплостью.
Я давно заметил: он, снег этот — мягкий и густой, как ковер — и людям и земле поперву тепло приносит. Еще вчера с вечера было грязно и шибко морозно от свиста ветра ли, от мерзости природы, или внутреннего непокоя, а утром глаза сами открылись от излишков света, лезущего в каждую щелку и слезящего своей многостью глаза.
Фима так увернулась, что снежок залетел мне в распахнутый ворот.
У ёй какие руки? Девчачьи! Вот снежок и распался на отдельные снежинки и просыпался под нательную рубашку. И побежали по коже тысячи маленьких укольчиков, покатились веселые капелки, щекоча и обжигая кожу живота. Я выдернул рубаху из штанов и тряс ею как парусом, выпуская на волю остатний снег. А Фима еще нарошно подкралась с заду и размазала две полные варежки снега по моёй брюшине.
Я поймал ее, схватил в охапку и ну целовать эти мокрые ярким светом или растаявшим снегом глаза, разгоряченные морозцем щечки, а она увертывалась, терла шершавыми варежками мой нос и рассыпала передо мной густой колокольчиковый смех.
Так, дуря и хохоча, добежали мы до скобяного магазина — тут завсегда разбегались. Она шла в гору, на уроки в техникум, а потом на дежурство, а я спускался меж огородов по скользкой дорожке к пруду. Там моя идеологическая работа.
Возле скобяного и встретил Витьку Савина, наборщика из типографии. Это он первый сказал мне, что в Челябе на днях заарестовали Антонова и Барабанова.
— Это ж, вроде, дружки твои?
— За что? — округлились мои глаза.
— Сказали — за шпионаж.
Я тогда опешил.
— Какой шпионаж? Какие такие тайны оне знать могут, чтобы кому-то их передавать?
Но Витька не стал больше со мной говорить, отвернулся и намеренно ушел в другую сторону.
Пацаны! Один все комсомолию да учащуюся молодежь в статейках прописывает, а другой вообще на городском хозяйстве сидит. Что на базаре услышит, да кто с кем в развод задумал идти — вот и весь его кругозор.
И того, и другого я хорошо знал, пока вместе в одной газете работали. К им, в том числе, и ездил регулярно, не столь по делам, сколь выпить да поболтать.
И вот эта новость!
Перво-наперво я растерялся — ну как же так-то? Ладно бы кто там деловой или шибко значимый, скажем, зав. отдела партийной жизни или промышленность и экономика. Тут и знания определенные, и вес в партийных и хозяйственных кругах немалый. Вот эти еще могут чего-то такого, внутреннего знать. А Барабанов или тот же Антонов — пятьдесят копеек за строку — вся их цена…
Я собрался было поехать туда, к ним, и чуть ли не бежал по каменистой тропке. Но, пока до редакции дошел, много чего подумать успел. А тут еще с порога встретил ощутимую мрачную тишину и спрятанные у всех глаза. И тож глаза в пол бросил, — деланная видимость большой занятости, неожиданные неотложные дела и…
Это была новость, которую все знали, но о которой все же и боялись говорить. Этакая зараза. Поделишься с кем-то, и как простудой или дурной болезнью, сам заболеешь. Приходится делать вид, да, приходится. Но кошек из души не спрячешь, особливо когда они в тебе целой шоблой сидят и все органы когтями царапают!
Я поддержал ребят… недельным запоем в темноте своей, отгороженной от всего этого ужаса комнатки. И даже, сволочь такая, письма там, или записки поддерживающей мамке с сестренкой Барабановским не послал. А я ведь в дому у них не просто бывал, я ж, когда впервой в Челябу прибыл, жил у их, до трудоустройства и койки в гостинице.
Много этот год в нас черноты открыл. Враз стали злее друг к дружке, и скрытнее. И завидовать, кажись, нечему — все в одном дерьме живем, ан нет! Почему моё дерьмо дерьмовее, чем у его?..
А теперь, когда меня тут спрятали, кто поверит, что я оказался в этих казематах случайно? По чьей-то глупой ошибке? Кто хотя б записку Фиме, или слово доброе вслух?
«У нас по ошибке честных людёв не садют»…
Ну? Не сами ж мы такие слова придумали? Их в нас кто-то же вбил, и не за просто так, а с умыслом намеренным. А иже сумняшимся говорили — разберутся, невиновных отпустят.
Теперь ты знаешь цену этих слов? А? Выкусил?
Так что с любой стороны, хоть весь шар земной в обратную сторону закрути, есть только один человек, который биться за меня будет.
Это Фима.
В ее руках мое спасение будет только тогда, когда я смогу донести до воли — где я и что со мной. Вот жену и надо поставить в известность, каким-то невероятным образом перебросить ей весточку.
Каким?
Из камеры меня не выпускают, а больше играются, как жирные кошки с безответной мышью. Начальство ко мне не приходит, да оно, может, и не знает вовсе про моё наличие в их застенках. Бумага у меня есть, и написать есть чем.
А и напишу.
Через кого передать весточку на волю?
Я посмотрел на маленькое зарешеченное оконце под потолком. Окно подвальное, если с улицы глядеть — в ямине находится. Выбросишь записку — там, в куче мусора и сгинет, никто ее не найдет. Да и со двора окно, люди, почитай, тут и не ходят.
Нет, не с того конца начал. Не от бумаги и карандаша плясать надобно. А от человечка согласного.
Кто вокруг меня есть?
Молотобоец?
Этот самый заинтересованный в моем здесь бессрочном пребывании.
Пахом?
Более безразличного к жизни человечка я еще не встречал.
Пахом тоже исключается.
Кто?
Или ждать кого-то третьего, или к этим втираться в доверие. Как?
Ищи! Ты же умнее их, есть у каждого слабое место. Бей в него! Но сначала найди это место.
Или обхитри!
2
В коридоре под моей камерой женский визг, пьяная ругань и слезы. Как может в одном лице быть столько разного?
Пробудясь, сел я на угол шконки и не сразу въехал — где я? На базаре или в камере?.
— Нет! Их двое! Одна визжит и плачет, другая грязно ругается.
Интерес подстегнул меня, и я прижался ухом к железу двери.
Как хорошо металл передает звуки!
— Сволочи! Мрази! Как смеете вы меня, честную ответственную работницу задерживать? — кричала низким прокуренным голосом и отмахивалась от солдат разбитная баба.
Я даже узнал ее внешность по этим ее выкрикам — на нашем базаре, у ворот сидит на приступке и семечками торгует, вся такая огромная, шалью крест-накрест перевязанная, с большим синюшным носом на мясистой обветренной роже.
— Я служу в конторе у самого Попенченко! — выдавала громогласная баба важные козыри. — Вы хоть знаете, кто такой Попенченко?! — трясла за грудки махонького солдатика. — А? Ты морду-то не вороти, не вороти! Ну, ничего, еще узнаете! Еще столкнетесь с завторгсбытом, когда уголь придете выписывать! Я вам выпишу! Я вам так его выпишу, замучаетесь вывозить!
Она нервно ходила по коридору от моей четвертой камеры до запертой двери дежурного и громко стучала каблуками по полу.
Сквозь ее громоподобную ругань визгливым фоном влетали негромкие подвывания другой женщины.
— И-и-ы!
— Хватит скулить, — рявкнула Разбитная на свою товарку.
— Муж, — сквозь слезы проговорила Плакса. — Он выгонит меня, если узнает.
— Что узнает? Что?
— Ну… что я… опять с тобой, — стеснительно ответила Плакса.
— А что мы, советские работницы, не имеем права праздник душе устроить? А?
— Я…я не знаю-у…
— Все только им положено? — картинно гнала Разбитная в пространство шумную волну. — Пить, гулять, революцию строить? Я тоже самостоятельная личность! Не иждивенка какая там! Я сама себе на свое содержание и прокормление горбом зарабатываю! У меня тоже права имеются!
— У тебя-то, может и права, — укоряла Плакса, — а у меня нет никаких прав.
— А это, милочка, ты сама себя так поставила! — наставляла на правильный путь товарку. — Это в тебе твое гнилое мещанство сидит.
— Я не мещанка, — робко вставила Плакса.
— Да не о происхождении я! — перебила ее Разбитная. — О сути твоей! Огнем это, каленым железом выжигать из сердца! Я вот своему так изначально и сказала при сватовстве — я не рабыня тебе, на такое даже не рассчитывай! Я — общественная женщина, и только при кухне и при пеленках меня не увидишь.
— Чем же плохо просто быть женщиной?
— Просто в наше бурное время не получится! — утверждала свою позицию Разбитная. — Или ты в общих рядах, или тебя загибать будут, как им вздумается!
— Никто меня…
— Загибает! Еще как загибает! — ни капли не сомневалась Разбитная. — Вот ты сейчас с чего дрожишь мелкой дрожью.
— Страшно мне.
— А с чего?
— Загуляла я.
— Где? В каком месте ты загуляла? — пытала Разбитная. — И с кем?
— С тобой, — тихо, одним выдохом поведала Плакса..
— Ну, посидели вдвоем две красивые женщины в ресторации, ну, выпили малость, — перебирала прошедшее Разбитная. — Что с того? Ни блуда, ни флирта! У нас и свидетели есть!
— Ага! — упрекнула состоявшимся фактом Плакса. — А в милицию попали!?
— Это все официантишка, зараза такая, — матюкнулась Разбитная и сплюнула смачно. — Ух, повстречаю я его еще!
— Зачем ты ему в зубы-то?
— А что, мне его целовать надо было?
— Не целовать, зачем же целовать! Он и не просил. Но кулаком-то… по человеку… это же не аргумент?
— Это у вас, мещанских перевертышей, не аргумент. Пасы — распасы, здрасте — простите! А у нас, простых и общественных женщин, самый настоящий аргумент.
— Ему больно…
— Вот и славненько! Теперь он меня, вражина холуйская, запомнит, и грубить больше не будет.
— Да он и не грубил совсем!
— Ну и пусть не грубил, — сбавила тон Разбитная. — Теперь уж чего? Сделали, и все, плоды созрели. Эй ты, солдафон в фуражке! Давай, пиши свой протокол и вези нас домой! Извозчика, извозчика крикни!
— Ой, не надо никаких протоколов, — потянула товарку за рукав Плакса. — Я бы заплатила лучше. У меня вот и деньги еще есть за лифом, я и сережки золотые с камнями могла бы.
— Подожди ты с деньгами, — зашипела товарка, прижимая Плаксу к моей двери, — можа так обойдется! Оне то ж лишнего шума не любят. Главное, напугать их покрепше, пены нагнать. А там, глядишь, и отпустят, еще и с извинениями.
Она приосанилась, добавила в голос грубости, заколотила в дверь дежурному и выдала очередную порцию ругани. Теперь уже матерной.
Не из дежурки, а из закутка вышел Ургеничус.
Это я по шагам его узнал, а потом и по слащавому голосу.
— Чего шумим, дамочки? — вроде как с веселостью спросил он. — Никак, праздник у вас?
Бабы сразу купились на эту его слащавость.
— Праздник, праздник! — завелась Разбитная. — Душа поет!
— Это хорошо! — расхлябанной походкой пошел на них Ургеничус. — Мы тож тута шибко певучие, когда повод есть да компания подходящая! Эй, Пахом! Нет ли у тебя там горячительного?
— Есть, как не быть, — это уже Пахом распахнул свою клетушку и выполз наружу.
— Мне б домой, — робко вставила Плакса.
— Да об чем проблема! — хохотнул Ургеничус. Он явно играл в этом оркестре первую скрыпку. — В лучшем виде, дамочки! В самом наилучшем виде доставим!
— Правда? — обнадежилась Плакса. — Вы нас не обманете?
— Да вот те крест! — хохотнул Ургеничус. — Моя смена через два часа закончится и я вас, красавицы, да самолично, под охраной вот этого вот револьверта, хоть на край света!
— Ну, мужчина! Вы такой!.. — прижалась к нему Разбитная.
Песня закрутилась.
— Счас мы выпьем, часы скоротаем, — подхватил ее под пышный бок Ургеничус, — порадуемся жизни и на самой красивой карете до квартиры!
Компания переместилась в закуток.
Пахом молчаливо собирал на стол, приносил громкую посуду и наличные харчи. Ургеничус балагурил — обалтывал согласных дам.
— Выпьем за знакомство! — поднял большой стакан Ургеничус. — Меня Феликсом зовут. Пахома вы уже знаете.
— Нюра, — представилась Разбитная, игриво усаживаясь к нему под бочок, и тут же поправилась. — Анна! А это у нас Софа, Софья.
— Я не буду, — тихо попросила Плакса Софа и спрятала руки под стол.
— Как это ты не будешь! — не принял отказа Ургеничус. — А праздник?
— Я такое крепкое не пью, — выбрала слабую отговорку Плакса. — И у меня муж, а я к нему пьяная.
— С одного-то стакана?
— Нет, ну пожалуйста!
Ее не слушали. Пахом молча всунул стакан в тонкую ладонь и сказал жестко.
— Пей!
От страха дамочка сделала глоток и закашлялась, чем вызвала громкий смех компании.
Сопротивления, как и самостоятельности, в слабом нутре у Плаксы было немного. Ровно на один, первый глоток.
Они пили, выли вразнобой разные песни, хихикали и опять пили.
Часа через полтора Плакса спросила про время и опять начала скулить.
— Отпустите меня, пожалуйста, вы же обещали! Меня муж дома ждет. Он строгий, ругать будет.
— Скажи еще, что побьет! — хохотнул Ургеничус.
— Нет, он меня не бьет, — откровенничала спьяну Плакса.
— А чего деит? Гладит?
— Он стыдит.
— И всего-то?
— Ага, всего-то! А знаете, как это? — нагоняла Софа слезу. — Это больнее, чем кулаком! Это как по голому сердцу.
Ее нелепые в этом кругу откровения вызвали новую волну смеха и издевок.
— Вы тут договаривайтесь, — встал из-за стола повеселевший Ургеничус, — а мы пойдем по протоколу решать. Пойдем, Анна?
— Пойдем! — кобылицей заржала Разбитная, всем своим видом демонстрируя полную готовность. — Посмотрим, какой он у тебя, твой протокол! На-стоящий сказуемо или под-лежащий прилагательно?
— А ты, — подмигнул Ургеничус Плаксе, — не кочевряжься, поговори с человеком, мож и с тобой по-нормальному обойдутся, по бес-протокольному! — и хохотнул похабно.
Пахом молча дымил папироской, искоса поглядывая на Плаксу. А она, парализованная страхом, сидела, зажав ладони коленями, покачивалась и смотрела упрямо в одну точку на столе.
— Домой хошь? — выдал наконец призывный сигнал Пахом.
— Хочу, — тихо кивнула Плакса.
Пахом поднялся, затушил окурок в тарелке и зашел к Плаксе со спины.
Она сжалась еще больше.
Пахом положил свои толстые пальцы-колбаски ей на плечи. Дама вздрогнула, но рук не скинула. Тогда он осмелел и полез клешнями под кофточку.
— Вы что… вы что? — зачастила дамочка. — Я совсем не такая!
— Домой хошь? — мутным голосом с упором повторил Пахом.
— У меня муж, — только и выдохнула Плакса.
Но Пахому нужно было свое и он, подхватив дамочку на руки, бросил ее спиной на большой стол.
— Боже, что вы делаете? Что вы делаете? — скулила оправдательно Плакса, пока неуклюжие пальцы Пахома возились в густых складках ее одежды.
— Домой хошь? — как заведенный, повторял Пахом, сурьезно вгоняя все свое упрямство в ее покорное смирение.
Они долго сидели молча, каждый со своей стороны стола.
Пахом, не теряя хмурого выражения лица, сочно курил папиросу, щедро выпуская изо рта густое облако дыма, и сверлил глазками ее разгладившееся розовыми щечками личико.
Плакса стыдливо тупилась, попыталась привести себя в порядок, застегнуться и пригладиться. Пахом строго стрельнул в ее замораживающим взглядом, остановил коротким словом.
— Погодь, я счас еще раз.
И она покорно опустила маленькие ручки на голые молочного цвета колени.
А потом, когда пришло время исполнять обещанное и отпускать бабу домой, Пахом сладко потянулся и без стыда и совести признался:
— Дык, не я вас задерживал, и отпускать не имею никаких прав. Вот придут утром старшие, оне за вас и порешают, — и, хлопнув ладонями и потерев их друг об друга, подмигнул, как старой знакомой. — Ну что? Еще разок?
Плакса негромко скулила в закутке на поскрипывающем столе.
3
У меня нашлось занятие по душе.
Блокнот и карандаш наполнили смыслом мое здешнее пребывание и я подробно, слово за словом, описал вчерашний вечер.
— Еще одна колоритная картина получилась, — ликовал я, укладывая исписанные листы под воротник. Прежние листы-мысли улежались и освободили место для новых откровений.
Двое суток меня не трогали.
По известному им расписанию дважды в день приносили кое-какую еду и питье, забирали вылизанную до блеска миску.
Я выгибал бошку, пытаясь высмотреть через амбразуру окошечка своего надзирателя и прикинуть его на возможность полезности. Однако, каждый из двух дней приносил новые, ранее не виданные мною, лица.
Мой вернулся с выходных или с отгулов отдохнувшим, с накопленной энергией для ударного труда.
Теперь дважды в день меня не только кормили, но и били. Били нещадно, до потери сознания. Оставляли отлеживаться на холодном полу. А в награду за терпение, после его ухода на столе красовалась миска и кружка, накрытая куском хлеба.
У времени появился свой отсчет: не от восхода до восхода, а от побоев до побоев.
Что это за ритуал такой и какова его цель, я сказать не могу. Не заглядывал в их души, не читал соответствующих приказов. Мог только гадать. Но и эта работа не доставляла удовольствия.
Я через силу заставлял себя вталкивать в нутро лишенный вкусовых категорий подкорм, чтобы хоть как-то собирать силы на жизнь. Даже за этакое существование я еще продолжал цепляться. От чего? А от того, наверное, что все еще надеялся — скоро выяснится, что я здесь человек случайный, по ошибке приблудившийся, и меня вернут в общественную жизнь. Я пока что ни от одного человека не слышал, что я чем-то виноват.
Во мне все кипело злостью и безысходностью. Я не умел целыми днями валяться на кровати, считать на потолке несуществующих ворон или овец и не иметь ни с кем бесед.
Я, как та Разбитная Нюра, был человеком общественным, всегда на людях и всегда в центре внимания. Опутавшее меня одиночество, усугубленное отсутствием информационной подпитки, просто сводило с ума. Ни радио, ни газет, ни самой захудалой книги. Я сейчас согласился бы и на «Маркшейдерское дело», и на любую другую дребедень, только бы занять чем-нибудь глаза и мозги, перестать видеть эти ужасные стены и ощущать этот спертый воздух.
От такой дикости я начал метаться по камере из угла в угол и самому себе пересказывать все стихи, которые я знал. А когда стихи кончились, завыл песни. Вот тут неожиданно прояснилось, что песен-то я почти что не знаю. Те, старые, от бати с мамкой слышанные, помню, а новые, которыми жизнь нашу переполнили, в голову как-то не впустил. Только и оставалось, что мычать мелодию, изредка извлекая из памяти соответствующее ей слово.
Пробовал заниматься физкультурой даже через раны и болевые сгустки в теле. Моих познаний разных упражнений было так мало, что я только и делал, что махал руками — как мух отгонял, наклонялся, да пару раз отжался от пола. Попробовал бегать — в этакой тесноте бег мой вышел похожим на лавирование вокруг стола и табурета и быстро надоел закручиванием головы.
Доставал из-под ведра блокнот и карандаш и хоть какое-то время с пользой проводил. В голове от такого ничегонеделания ползало много мыслей всяких. Только вот сосредоточиться сложно — постоянно прислушиваюсь, ловлю каждый шорох. Не приведи господь, подкрадутся, заглянут, и плакали мои карандаш и бумага. Последней радости лишат.
Я по новой оценил ночное приключение Плаксы, совсем другими глазами рассмотрел его. Если поперву оно мне показалось этаким анекдотом, достойным сатиры или фельетона в газете, то при утреннем осмыслении я увидел всю трагедию события. И повернул мои мысли не кто-нибудь, а Ургеничус. То, как он ловко и вовремя вышел из закутка, как подвел разговор под свое дежурство…
Ужо наверняка по предварительной сволочной договоренности и не впервой привели солдатики двух припозднившихся дам к этим…
Вот так почти анекдот и в моих новых записях перерос в трагедию. Фауст местного разлива.
Выползла рифма.
Разлива — пива.
Рифма, конечно, дрянь, но тема для развития оказалась приятной.
— Эх, сейчас бы кружечку! Пенку губками фью-у-у, она дыбится парусом, отплывает нехотя, оголяя темноту жидкости, и опять назад наползает. А ты уже присосался, и мягкие липкие пузырьки пены цепляются за твою верхнюю губу и висят на ней пышными дед-от-морозовскими усами.
Картинка с пивом отняла с минутку у пропасти тягучего времени, и опять смурь и желание не уснуть, а провалиться в какую-нибудь ямину, темную и густую, и пусть вся эта тягомотина пролетит одним мгновением.
Если допрежь я все ж таки как-то ценил отпущенные мне для проживания дни, строил различные планы улучшения себя, и старался в каждый час что-то сделать, чем-то заполнить и, порой, даже нужный физиологически сон ругал нещадно, особливо когда угар писания настигал. Тут без сожаления вычеркнул бы много страшных дней, даже какую-то возможную плату заплатил бы за эту привилегию.
— Ох, ты! — всплыла в голове «Шагреневая кожа». — Продаться! Пусть придет ко мне какой ни то черт или дьявол, и я ему три… нет, четыре или пять уже дней за просто так отдам. Или продам. Что взамен? А пусть мне книжек принесет! И карандашей пару! Я одним писать буду, а другой спрячу подальше, чтобы не нашли и не забрали!
Мысль о карандаше захлестнула меня, и я зашнырял глазами — куда бы я спрятал его?
Камера была построена так, что нычку здесь организовать и негде. Минимум во всем и простота. Табурет, стол, шконка, ведро в углу. Все. Одёжа не в счет. А карандаш под язык не спрячешь. Ведру я с некоторого времени перестал доверять на все сто, слишком часто я валялся без сознания, а в эти минуты тут кто хошь зайдет и куда не надо залезет, даже в это вот, для неизбежных дел ведро.
И тут меня осенило! Пол! Трещины! Выбрать подходящую по длине и расковырять ее. Потом сунуть в трещинку карандаш, пылью этой же присыпать, утрамбовать и сбрызнуть. И никто не догадается!
Я аж повеселел от такой догадки и уже и место для ковыряния выбрал. Да вовремя вспомнил — дьявол-то до меня еще не дошел, в других камерах торги свои дьявольские ведет.
От неча делать стал вспоминать французскую книжку, страница за страницей листая ее. А для эффекта лег на спину и закрыл плотно глаза. Я часто так делал, особенно привык, когда вечером, в одиннадцать, свет в общаге гасили, а ты еще ко сну не готов, в тебе еще бурлит рабочая энергия. Вот я и приспособился по памяти книги читать. А что, занятное дело! Сперва только урывки да куски строк выплывали, а потом и прямо страницами видеть стал. Стихи особенно. Вроде, и по памяти вспоминаешь, а как по написанному читаешь!
Мелкий поместный дворянчик Рафаэль да Валентин, прям как Дартаньян, юношей рванул в большой город — искать себя. Традиция у них, у французов, что ли, такая — всем в столицу надо, на люди. Только один шпагой себе дорогу прокладывал, а другой так себе, ни рыба ни мясо — все ему надо, чтобы кто-то преподнес на блюдечке. Встретил первые трудности и сник — не обучен с ими бороться! Вот и пошел топиться. Да случайно по дороге забрел в лавочку всяких там музейных древностей, а по-нашему к старьевщику. И увидел кусок старой кожи и надпись на ём секретная, в смысле, что загадочная. На древнем языке, на санскрите. Что-то типа такого.
«Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне… Желай — и желания твои будут исполнены… При каждом желании я буду убывать, как твои дни…»
Вот он и купился. И получил все и сразу. А взамен чем отплатил? А пообещал отдать какую-то часть своей еще минуту назад никчемной жизни, которую он же сам и собирался выбросить за ненадобностью в мутную реку. По правде выходит, этот Рафаэль ни за что тут же получил всё. А в конце, дурик, запаниковал.
С чего, спрашивается, ежли тогда еще, в лавке той, богову душу продал, конец такой для себя выбрал и довольный со всех сторон был? Или лучше было в реку с головой и весь путь?
Я весь остаток дня и ночь пережевывал роман, заостряя внимание то на одной выплывшей части, то на другой. И сейчас, не читая его, а прогоняя по своей памяти, увидел много чего нового.
Помню, когда я, еще в первый свой приезд в Свердловск, прочитал по рекомендации кого-то из тамошних литераторов этот труд Бальзака, был зачарован им, и мы долго спорили о книге, каждый по своему трактуя ее под свою сущность.
— Ну и что тут плохого? — запальчиво защищал Рафаэля большой литератор Харитонов. — Брось-ка на чашу любому из нас разную ношу и поглядь — чего он выберет?
— А что на твоей чаше?
— С одной стороны двадцать лет в забвении, в нищете или в тюрьме.
А в другой чаше?
— А с другой стороны один год в почете, в богатстве и на воле.
Когда так вопрос ставится, ну какой еще тут может быть ответ? Ведь перед каждым очевидное, и выбирать тут нечего.
— Просто возьми и посчитай, — давит на нас своим авторитетом Харитонов, — сколько наших, нам отпущенных дней, сжигаем мы зазря?
Ан нет! Мы картину гнать любим! Кто для показу, кто изнутря — спорили до пены изо рта. Но в большей части, и это лезло наружу, каждый был немного этаким Рафаэлем, каждый был готов часть себя, кто — больше, кто — меньше, бросить в огонь, только бы сию минуту или в сей час иметь чего-то больше, чем у него имеется.
Оно ж в нас так прилеписто сидит, — найти мешок с деньгами завсегда легшее, чем его заработать. Это ж у нас с кровью впитано, со сказками да с опытом.
У нас Иван-Дурак не вырастил волшебное яблоко, а нашел его.
У нас купец богатым стал не от ума своего, а обманул другого, в пьяном ли, в трезвом деле, но объегорил. А то и напрямую украл, да еще и жизни лишил.
Надо долгую жизнь прожить, чтобы дни свои ценить научиться. А тут еще есенинщина масла в наш огонь подливает — всем надо такой же славы, много и сейчас. Мы и равнялись-то на него, хоть и числился он среди запрещенных, непечатаемых и вслух непроизносимых.
Я вновь и вновь возвращал себя к Рафаэлю, пытался сам у себя выпытать — какой же я внутри, насколько я ему сродни?
Вот сижу тут, в темнице. И сколь мне еще одиночиться, ни черт, ни дьявол знать не знает. Может, как тому графу Монте Кристо? Мне будет… будет… сорок два! Ё-моё! Это ж полный конец жизни! Все мимо пролетит: и жена, и детей нет, и никакого места на земле, никакого следа от тебя!
А явись он, дьявол, в любом, в самом мерзком своем обличии, и предложит хоть какую страшную, но определенность: это — здесь, это — тогда, того — столько. Продался бы я? Да ни минуты бы не думал — душу, веру, здоровье — на, подавись!
— А энти дни, что уже прожил тут? С ими как поступить? Тоже под хвост? Пустые они у меня? Или чем-то я от их богаче стал?
И признался себе:
— Пущай остаются, не буду их вычеркивать.
4
Я не знаю, какой сейчас день, час, я даже не знаю месяца и года, в котором пока еще существую.
Они выбили из меня всё.
Память.
Способность думать.
Желание жить.
И даже в петлю я залезть не могу, потому как не осталось во мне силы дотянуться до решетки окна и привязать к ней ремень или шнурки от ботинок.
Я труп.
Пока еще живой труп.
Но это ненадолго.
Дни мои сочтены.
Я физически чувствую, как жизнь капля за каплей уходит из меня.
Я — песочные часы.
Вот наиболее точное мое состояние.
Если меня не перевернут, песок быстро закончится…
* * *
В этом черном мире свои законы.
Он приходит без предупреждений. И всегда в такое время, когда я сплю.
Деловито, ударом ноги в живот или по печени, сбрасывает меня со шконки, катает по полу, потом, обмягшего, садит на табурет и уже кулаками отрабатывает на мне все свои физические возможности.
Он не говорит ни слова.
Я не задаю вопросов.
Я только тупо жду, когда он вытрясет из себя весь запас отсчитанных для расходования сил и уйдет отмываться от нас, грязных, и заливать глотку, а через нее и последние мучающие его мысли в голове, крепким самогоном.
После его ухода я буду сутки лежать неподвижно, обиженным щененком скулить себе под нос и безвольно ходить под себя.
В другие сутки начну помаленьку привставать, потом встану — на столе в миске скопится засохшая каша, круг ее отстанет от краев и будет похож на серо-крапчатый брикет, который приходится не жевать, а откусывать, впивая в массу голодные зубы. Я буду размачивать выгнувшиеся куски хлеба в кружке с пустым чаем и сосать их. Я притрагиваюсь к этой негодной пище через силу, через не хочу, понимая, что без этой подпитки мне не протянуть. И, хоть и все чаще и чаще посещает меня мысль о смерти, что-то еще осталось, что гонит ее от меня, а меня от нее.
Надежда?
Как у бабки моей?
Сызмальства помнил я кусками несколько молитв, точнее, обрывков молитв. И в минуты возвращения к жизни начал их нашептывать богу. А чего? Никто не услышит, не засмеет. Вдруг, дойдут они до него? Вдруг и до меня очередь его дойдет, и придумает он, как мне помочь, как облегчить трудную дорогу.
Меня лишили возможности что-либо делать. Я не мог читать — нет книг; я не мог писать — нет ничего в голове; я не мог ходить даже вокруг этого стола — нет сил. Я даже спать путем не могу — нет сна, а есть какие-то провалы, пропасти, куда я улетаю.
Говорят, будто душа у человека во сне бросает бренное тело и отправляется пошарагатиться по миру: или навестить родственные души, или попутешествовать. А потом возвращается и рассказывает — где она была и что видела. А случись с ней какая оказия, там, в гостях засиделась, в незнакомом месте заблудилась или в переплет какой попала — и не проснулся человечек, спит-поспит сутками напролет, вроде как и помер. Без души-то он пустой. Вот такая смерть почитается самой легкой. Уснул и помер. И ни боли, ни сожаления.
Как бы хорошо тож вот так вот — улетела душа моя и нехай не возвращается. Потому как и боль-то я чую не столько через туловище — это терпимо, а боле через душу — обидно. Обидно ни за что страдать, ни за что пропадать.
Хоть бы взяли да соврали мне — вот, мол, какая за тобой вина имеется! Вот где ты противное нашему укладу совершил, за то и заслуживаешь. Я бы принял! С чистой совестью и покорной душой терпел — ага, не за просто так муки приемлю, а за дело, заслуженно.
Но нет, и прямых слов не говорят, и врать не думают. Просто заманили обманом в свои дремучие подвалы, заперли в клетке и теперь терзают мое тело, а еще больше душу.
Самому, что ли, причину придумать?
Ну, вот что я такого супротив их власти сотворить мог? Чем помешал ихнему социалистическому строительству и провозглашенному движению вперед, к всеобщему счастью?
Да я ж всегда в первых рядах! Я ж тоже туда, вперед рвался! В семнадцать лет на стройку, вон, завербовался. И не просто так робил — день прошел и бог с ним, я в хорошей бригаде, с перевыполнением!
И потом уже, когда грамотность мою оценили и кой-какие словесные способности разглядели, я ж по первому их приказу под козырек. Сказали — в газету иди — дух поднимать, силы внутренние будить, на борьбу мобилизовывать.
Разве ж я хоть единожды ослушался?
Ну, было… потом. Когда захвалили да авансов надавали. Но ведь им самим это во мне понадобилось? Разве нет?
Он же как мне сказал, секретарь-то от идеологии партейной?
— Мы тебя на высоту выводим не потому, что ты на самом деле такой высокий! Мы для пользы развития. Одно дело, когда ты просто слово молвишь, как работник лопаты и кайла, и совсем другое, когда ты стоишь на острие нашего идеологического фронта и имя у тебя уже звучное, к делу партийного созидание приближенное. Да каждое твое слово стократ сильнее и ответственнее от этого становится. Тебе люди безоглядно поверят, за тобой безоглядно пойдут. Вот и веди их нашей, единственно правильной дорогой.
Вел?
Вел!
Каждой выверенной и разрешенной строкой призывал, зажигал, просвещал.
Да, нравилось.
Да, возгордился.
А и как иначе? Мне всего-то двадцать лет, а на меня уже вон чего навешали. Их сотни, им лет и как мне, им и больше, чем бате моему, а слушают, рты поразинув. Да потом, в кабаке ли, просто ли в барак тянутся, и всем надо разговору по душам, и политически разъяснить. А как без вина по душам-то?
Я ж просил вас — огородите, не могу я столь пить. А вы что? Будь ближе к народу! А потом сами же это вино виной мне выставили, мол, несдержан в употреблении. И выжили отсель, спровадили.
Чё, думали, без вас я никем стану? По миру пойду? Опять к кайлу и лопате спущусь?
А вот нате вам! Выкусите!
Вы же меня поднимали, вы же меня учили, как на таких горизонтах жить и место свое удерживать! Я теперь везде сгожусь. Место в трудовом фронте своей вотчины вы у меня отнять можете, и рожу свою от меня отворотить можете. Но я уже не пацан при лопате! У меня другое орудие труда — слово. И вам, многим надо мною, без меня уже не обойтись. Потому как вас вона сколь понатыкано везде, при должностях да чинах. А я при вас такой один!
Один, понимаете?
И если любого из вас возьми и выбрось, — тут же за столом с десяток других в очередь выстроится, меня без потерь уволить нельзя. Потому как место мое враз опустеет. Кто тогда петь будет ваши песни? Кто ваше вранье в правду обратит да с силой в их простые головы намертво вобьет?
Вот пройдет, скажем, пятьдесят лет, наступит то самое светлое будущее, и захотят люди узнать, как же на самом деле все в наше время происходило? Чем мы жили, об чем думали да о каких снах мечтали. Где им черпать правду о нас? Не в завиральных же речах партийных служак, не в пустых душою рапортах об успехах. А в моих из сердца вышедших строчках, в моей судьбе, как одной из крупинок человеческого бытия и осознания.
То-то!
Мы часто, промыв желудки пивом или обострив мозги вином, об этом говорили в своих кругах. И все как один признавали — мало нас ценят, не до конца понимают наше особое местоположение.
Мишка, друг мой, свою любимую песню затянет.
— Ты того, ты не думай, что я… я всегда про тебя так говорить буду. Вот кто у нас на строительстве был главным?
— Ну, Яков Гугель.
— Ладно с Гугелем. Этот у нас кажный день по стройке бродил, слова разные говорил. А первый партейный начальник кто был? А второй партейный начальник? Ну, а городской голова?
На молчание наше воткнет под потолок палец и скажет веско:
— Вы и счас их по фамилиям да по должностям не упомните, а годы пройдут? Разве что в каком-нибудь архиве или в музее на пыльной полке имя их еще и сохранится. А твое имя, — тычет пальцем в мою грудь, — или может даже и мое, любой учитель, любой школьник знать будут.
— Скажешь тоже.
— И скажу! — взвивался Мишка. — А вы слушайте и наперед думайте За чё, спросите, такая честь, а? А за то, скажу я вам, братцы мои, что слово твое временем не стирается, оно, раз тобою заточенное, стрелой вперед полетит и никто его любой властью не остановит и со страниц не сотрет.
— Скажи еще, что и нас переживет, — усмехаюсь таким фантазиям я.
— Еще как переживет, — стучит кулаком в грудь Мишка, — каменными буквами на памятниках сиять будет! В песнях звучать и в сердцах стучать.
— За какие такие грехи?
— А хоть бы за такие, что мы с вами тута, у Магнит-горы, город будущего зачинали и след какой-никакой кайлом на откосах выбили…
Такие вот разговоры шли промеж нас.
При наших встречах, да при вине.
А и не они ли виноваты?
Ну, нет, конечно же нет!
Разговоры и не могут быть виноватыми.
А вот те, кто их говорил…
5
Казалось бы, издеваться надо мною больше некуда, все самые садистские методы на мне отработали. Я не ждал от них улучшения своего положения. Но так же не ждал, что может быть еще хуже, еще больнее Но они нашли способ и еще раз наказали.
Пропал блокнот, спрятанный под ведром.
И карандаш.
Я еще недавно думал перепрятать его, даже место углядел в расщелине плит пола. Да поленился. И вот последнее разумное занятие, последняя радость для души у меня похищены.
Рыдать я не мог, слез во мне не образовывалось, потому горе спряталось во мне, скопилось в большой колючий шар и не находило выхода.
Я вспомнил слова Ургеничуса, как один из узников тута, не выдержав испытаний судьбы, сам себе руку грыз, вену перекусывал.
— Неуж и вправду так можно?
В минуту самой большой тоски, когда все моё терпение напрочь истончилось и мне даже вставать к воде не хотелось, я начал скрежетать зубами, разминая их, и примериваться, как бы сподручнее прокусить свою вену. Отвернувшись к стене и спрятавшись под пальто, грыз истончившуюся кожу, оголяя доступ к пульсирующей жилке. А она, как зверушка, чуя беду, убегала из-под зубов и пряталась под сухожилием. Я бы мог захватить ее сильнее и сжать, чтобы не дергалась, но вот ведь зараза в голове! боль каждый раз ослабляла хватку и жилка сбегала.
— Ничего, доберусь я до тебя! — давал себе передышку и уходил в думы, загружая себя лишь тем, как я буду тихо помирать, когда кровь моя потечет из меня.
В суете да в борьбе уперся воротником в шконку и ощутил неудобство — под воротником бумаги мои сбились в ком и давили на шею.
— Помирать собираешься, а все удобства ищешь, — ругнул себя.
Любому поводу отвлечься был рад и с большой охотой отступился от кусания руки, чтобы выправить бумажный ком.
Я ж не просто так, в одночасье, умереть решил, а с тонким расчетом. На что рассчитывал? — а на то! Вот умру я здесь, узником в мрачных застенках, тело мое бездыханное должны Фиме выдать? Должны! В пальто она меня точно хоронить не будет — никого ж в пальто не хоронят, мертвяку холодно не бывает. И она сначала сохранит его, как память обо мне. Я ж ее знаю! Почистит и в шкаф повесит. А потом, мож, перешить, мож воротник куда спороть, или просто поплакаться достанет и обнаружит тайную закладку.
И прочтет все про все.
Когда-то же придет такое время, что и Есенина опять можно будет без опасений читать, и вот эти записи мои…
Все людям какая-никакая память про меня достанется. И имя мое по-другому произноситься будет, не с тем презрением, что сейчас в него вкладывать пытаются, а почти по Мишкиным предсказаниям. Ну и Фиме польза — она ж у меня жена законная, наследница. Те гонорары, которые мне положены будут, ей уйдут.
— Эх, жаль, деток мы не успели настругать-то.
Вот это действительно, больная тема. Кто ж знал, что так обернется? Все важные поводы находили да промеж собой их делили — вот учебу она закончит, вот работать начнет, я остепенюсь — тогда и можно будет…
Тогда…
Никогда…
Правильно тетка ее говорила, еще там, на свадьбе.
— С детками не тяните.
Ведь будь у нас малец какой, или девчонка, разве ж я так себя вел, а? Я бы все в дом, а не в кабак. И работал бы вдвое, нет, втрое супротив. А? Разве не так? Сколько народу круг меня остепенялись, семьей обзаведясь-то? Я ж сам так думал, когда на Фиме женился — дом, уют, рабочая обстановка. Жена домашнее на себя возьмет, а я добытчик. Ну, и любовь, конечно, такая молодая да красивая… Мягкая, ласковая…
Эх, судьба-злодейка.
Я еще для ча в воротнике порядок-то навести решился? А чтобы палачи мои непорядок не увидели и руками своими, кровью моей по локоть испачканными, не влезли да душу мою не прочли. Ладно бы, я твердо знал — найдут и Фиме отдадут. Так нет же, нет! Они обязательно такой материал про них изничтожат.
А фига ли вам да с маслом!
Я зажал пальцем прокушенную уже кожу, дождался, когда рваная ранка кровянить перестанет, и полез под воротник.
Лист за листом, бумагу за бумагой доставал я — сначала неспешно, с аккуратностью, потом уже взбешенно, с рывками и проклятьями.
Все пространство тайника моего было забито страницами отвергнутого мною в первые дни моего здесь пребывания «Маркшейдерского дела». Глянцевые листки учебника, испещренные таблицами, формулами и схемами потрескивали и надсмехались надо мной — попался?
Нашли.
Подменили.
Надсмеялись.
И даже права моего самостоятельно умереть и остаться после себя этими своими писаниями меня лишили.
От злости я разметал страницы учебника по камере. Они парили в воздухе и неспешно опускались на бетонный пол, укрывая его грязность белизной крупных правильной формы снежинок.
— А вот хрена вам, теперь уже лошадиного! Самого-самого старого мерина! — бесновался я, топча невинную бумагу злыми ботинками. — Назло вам всем, сволочи, жить буду! Через все ваши садистские пытки пройду, землю жрать стану и корой березовой закусывать, а выживу. И еще на ваших могилах спляшу. И пусть меня за это святотатство бог накажет, пусть люди проклянут, но я вам отомщу.
Жизнью своей отомщу, отказом от смерти.
Хоть на пядь, хоть на глоток да останется мне моя шагреневая кожа.
Глава 4 Белые снеги
1
— В одежде на выход! — прогремело в открытую амбразуру двери.
Давно уже не ожидаю от моих палачей ничего хорошего. Привыкнув к побоям, как к неизбежному восходу и заходу солнца, я не спешил выполнять прозвучавшую команду — это единственный вид протеста, который еще остался в моем арсенале.
— Шевелись! — служивый поиграл засовами и замками, распахивая дверь в мир.
— Куда меня? Бить?
— Так бьют здесь.
— На допрос?
— Почему в одёже.
— Переводят в другую камеру, к людям? — переговаривались во мне два моих я.
Иных вариантов в скупом воображении не просматривалось.
По другим коридорам и другими ходам повели меня в огороженный высоким забором двор каталажки. Я хоть увидел — сколько здесь всяких темных закутков и уходящих в черноту коридоров.
Пальто болталось на мне колом и не грело, тяжелые ботинки весело цепляли носками рыхлый снег.
Конвоир остановился у двери, ткнул мне в спину:
— На погрузку в машину!
Огляделся.
Прилипнув к стене забора, воткнула в небо оглобли заснеженная телега о трех колесах. Рядом побитая кабина грузовика без стекол и дверей, горка соснового теса и культи березовых комлей.
Посредине, на заснеженном круге, стоял темно синий грузовик с железной будкой вместо кузова — точно такая же будка, только светлого бежевого цвета была на хлебовозке, ежедневно приходившей утрами к нашему магазину. Дверь будки нараспашку, двухступенчатая железная лестница упирается в снег; возле нее, переминаясь с ноги на ногу, стоит скучный военный с винтовкой за плечами.
Я сделал два шага, отдаляясь от того, который за спиной, и кулем свалился в снег, и зарылся в его мягкость истосковавшимся лицом. Тысячи колких снежинок вонзились в мою кожу, сжимая ее, а мне кричать хотелось от радости.
— Снег!
Знал бы он, родимый, как я по нему соскучился! И по живому солнцу, и по совсем другому воздуху, в котором так сладко намешано и конским навозом, и дымом этого вот грузовика, и просто призрачным ощущением вольности.
— Встал! — пнул меня в бок набежавший конвоир. — Быстро!
Поднимаясь, я, назло ему, загреб полные ладони пушистого холода, напихал в глаза, в рот, а остатнее восторженно размазал по шершавым щекам, втирая в них огненный жар.
Быстрые капли ползли по лицу и спрыгивали с подбородка, а я улыбался им, как дурачок с рынка, нашедший копеечку.
— Копеечка! У меня копеечка!
Меня кулаками и прикладом затолкали вовнутрь. Там уже стояли плотной массой не менее десятка угрюмых людей.
— Как же мы тут рассядемся? — подумалось мне. — Нет ни полок, ни скамеек.
Из разных щелей приземистого здания горотдела НКВД со спрятанными за спины руками выходили и выходили новые узники.
Где их содержали?
Где прятали?
В тех непроглядных коридорах?
Сколько же камер всего?
Мои глаза шныряли из угла в угол, поражая меня огромностью моих товарищей по несчастью. И все эти ручейки страданий текли и текли к нашей будке.
Места было явно меньше, чем душ, для перевозки предназначенных. Последних заталкивали матюками и прикладами, били в костистые спины, пока шаткая дверь не встала в пазы и не защелкнулась.
— Куда нас? — скользнул тихий вопрос.
— Говорят, в Челябу, — прошелестело над головами из неизвестного рта.
— На что?
— За приговорами.
— Не проще было приговоры сюда привезти?
От ватных тел шло скудное тепло, упасть, как и повернуться, было почти невозможно. Мы прыгали и покачивались всей студенистой массой в резонанс ямин и выбоин дороги.
— Какой седни день? — выпустил я вопрос в стоящие впереди спины.
— Четырнадцатое февраля, — ответило чье-то горло из-за моей спины.
— Тридцать восьмого года, — добавило следом эхо.
Я быстро прогнал в голове математические расчеты и получил страшную цифру.
— Пятьдесят дней! Пятьдесят вечностей унижений и побоев. Пятьдесят попыток уничтожения меня и моего «я».
2
Пять часов вялого ходу терлись друг об друга, одинаково опустошенные побоями и на все согласные туловища. Ни жалоб, ни разговоров, только иногда, на кочке, где-то сдержанно простонут кратко и опять только рев мотора да рваное дыхание.
Мне и такое передвижение было в охотку. Почитай, я впервые за пятьдесят дней увидел столь много народа и переместился из выученной до последней царапины на потолке камеры на свет божий. А что на приговор везут, так оно и к лучшему. Хоть узнаю, в чем меня виноватят. А, может, именно там и выяснится, что я в этом кузове, как и во всей этой мясорубке, совсем случайный гость и меня надо домой отправить.
— Интересно, — колыхнулось во мне глупое, — а если признают невиноватым и выпустят, зарплату как, за все дни погасят? Я ж в Челябе буду, можно сразу в редакцию поехать, проставиться за гонорар.
Уже при выгрузке мой сосед, тот, о чью спину я чаще других опирался всю дорогу, тронул мой рукав и попросил, потупясь.
— Ты прости меня.
— Не за что тебе предо мной виниться, — шепнул я, в лицо его разбитое не вглядываясь. — Я ж не бог, прощения дарить.
Мужичок загородил мне дорогу, уперся грустными глазами в мое лицо
— Аль не признал? — обиделся он и напустил на щеки сурьезности.
— Мать моя! Ургеничус? — оторопел я.
— Я! — поползла кривая улыбка. — Узнал! Надо ж, узнал, зараза!
— Тебя-то с какого боку к нам?
— Ай, — махнул он отчаянной рукой и побрел в свою дорогу.
Нас пересчитали по головам, сверили со списками и растолкали в свободные места.
В моей камере я оказался четвертым, и это обрадовало меня — я уже отвык от человеческого общения и боялся, что забыл большую половину известных мне слов.
— Здравствуйте, люди-человеки, — поприветствовал уважительно. Ответили мне вразнобой, не вглядываясь в меня и с явной неохотой.
В душу лезть не станешь и я, заняв свободную шконку, сжался в комок, скопить немного тепла, рассеянного телом за долгую дорогу.
Я даже немного задремал, опьяненный таким количеством свежего воздуха.
В камеру зашли двое военных. В каком звании и при каких должностях — не разобрать. Сапоги, брюки-галифе, исподняя рубаха и палки в руках.
Сидельцы в камере молча забились в дальние углы своих шконок и прикрылись руками. Я перестал слышать даже дыхание. Но воякам до них не было никакого дела.
Им был нужен я.
Новенький.
Свежее мясо.
Они не били меня по голове и лицу.
Они терзали мое пальто, штаны, подошвы ботинок. Молча, методично, не перекрещиваясь и не мешая друг другу.
Все у них было отработано до секунды.
Враз оба остановились.
Один пошевелил носком сапога мое бездвижное тело, несильно пнул в бедро и оба, с чувством выполненного задания, ушли.
Соседи по камере с оглядками выползли из своих щелей, подняли меня и бережно, как стеклянного, уложили на шконку.
Я был им благодарен и сказал бы об этом, но все мои слова были глубоко вбиты в мое горло.
Среди ночи те же вояки явились второй раз.
Теперь на них были гимнастерки и фуражки. А вот палок не было.
Они подхватили меня под руки и уволокли в темный коридор. Я даже пытался шагать, помогая им, но не поспевал за их скорым ходом.
Тело мое бросили на стул с высокой прямой спинкой, прислонили к ней и встали, каждый со своей правильной стороны.
За столом сидел офицер с опухшими кровью глазами. На его вальяжно распахнутом воротничке золотисто поблескивал маленький ромбик.
Офицер, не удосужившись представиться и даже бегло взглянуть на меня, долго и нудно бормотал что-то себе под нос. Мне казалось, что где-то за стенкой работает радио, и диктор читает сводку с полей трудового фронта. Пролетали дежурные слова о социализме, врагах и приспешниках, трудовом народе, великой партии и о происках империализма.
Утомившись и отложив последний из зачитываемых им листов, офицер сложил руки на столе и пристально глянул в мое лицо.
Пауза затягивалась.
Он, видимо, ждал от меня каких-то важных слов, вопросов или оправданий, но я не знал, чем могу порадовать его в его утомительной значимостью работе.
По растерянному виду я понял, что разочаровал его в его ожиданиях, и все в трудах приготовленные им для меня слова оказались невостребованными.
Его рука пошарила в стопке серьезных бумаг, выбрала нужную и поднесла ее к утомленным глазам.
— Вы обвиняетесь в организации антисоветского заговора. Вас полностью изобличают письменные показания ваших товарищей по преступной организации: Виктора Губанова, Михаила Заболотнего, Василия Макарова.
Услышав знакомые фамилии, я расплылся в улыбке.
— Ребята, друзья мои, не забыли про меня! Это хорошо, что мы с вами идем по одному делу, значит, скоро свидимся.
— Признаете свою вину? — встал во весь рост над столом дьявол, переодетый сегодня в форму офицера и положил передо мной кусок шагреневой кожи.
Двое по бокам сверху вниз посмотрели на меня, и в их хмурых взглядах не было никакой жалости.
— Признаю, — весело сказал я, разгоняя их хмурость. — Все признаю!
— Подпишитесь вот здесь, здесь и здесь, — приказывал офицер. — А вот здесь полностью. Фамилия, имя, отчество. И дата!
Я согнулся над столом и, следуя за пальцем офицера, выписал себе билет в ад:
Кривощеков, Борис Александрович, 15 февраля 1938 года Магнитогорск, 28.11.-26.12. 2016 г.
повесть вторая под полярным вечно хмурым небом
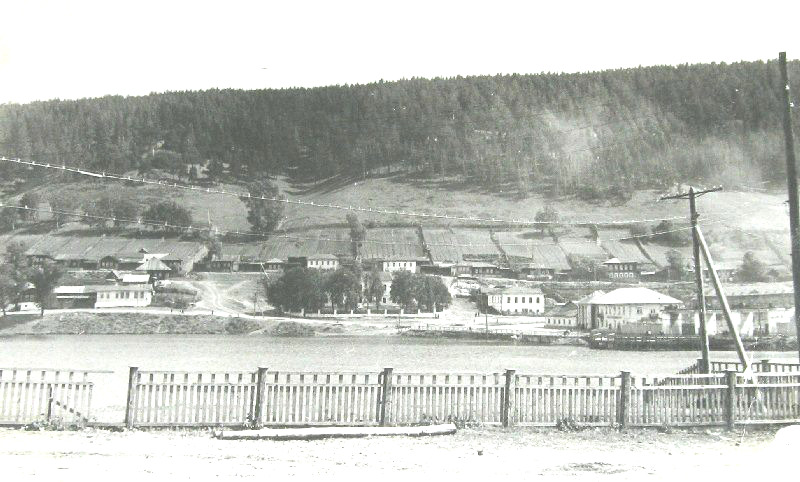
Заводской городок Куса, Южный Урал
Отец мой, Василий Васильевич, родился в 1918 году. Когда началась война, он проходил действительную службу и потому, в отличие от своих братьев, на фронт добровольцем не пошел. Он там уже был. И прошел всю войну, до самого последнего дня. Домой вернулся только весной 46 года после излечения в госпитале. Как его излечивали, равно и как он воевал — он никогда не говорил.
Его отец, мой дед Василий, не воевал в этот раз. Увечье ноги, полученное еще в первой мировой, навсегда поставило крест на его воинстве.
Зато братья отца — и средний Георгий, и младший Михаил, воевали. Вернулись, на радость маме и моей бабушке Тяколихе, живыми и целыми, все трое. Только вот каждый прошел своей военной дорогой.
Батя мой довоевался до ранений, орденов, медалей и чина офицера. Средний, Георгий — простой солдат с одной военной медалью на груди. Мишка, младшенький, в плену отсиделся.
После войны зажили мирной жизнью. Переженились, детей настругали.
На стене нашего дома висел портрет в рамке, где батя снят в военной форме и в буденовке.
Ну, — думал я, — раз в буденовке, значит, кавалерист!
И спрашивал у сестры:
— А где конь, почему его нет на фотографии?
Сестра сердобольная, жалостливая, отвечала мне:
— Конь устал, на травке пасется.
— А, — принимал я ее ответ, но мне он не нравился. Потом о том же спрашивал у брата. Тот хоть и отвечал жестко, но понятно и приемлемо.
— Ты чего? Конь вон какой здоровый! Он ни на одну фотографию не поместится.
Вот теперь понятно…
Батя, сколько я помню, все кашлял и сплевывал в помойное ведро сгустки крови. Его в госпиталях вылечили, наверное, наполовину. Поэтому в 60-м году, в феврале месяце, он умер.
Тихо так.
Неприметно.
Мы, мелкота, просто проснулись утром на большом, сколоченном из досок и укрытом всяким тряпьем топчане и, спросонные, услышали от сестры:
— Папка умер.
Сестра сидела на скамейке около окна, примерная, с руками, сцепленными на коленках и, не мигая, смотрела на папку. И на то, как мы, трое разновозрастных братьев, вокруг него шевелиться начинаем. Спали-то мужчины на этом самом топчане в той части избы, где печь была и стол для еды. А сестра с мамой спали на панцирной кровати с никелированными наконечниками, приставленной к теплому боку печи. Эта печь была и грелкой, и внутренней стеной комнаты.
Такой у нас был домик: женская комнатка, кухня, сенцы и чулан.
Мамка ничего про папку еще не знала, она раным-рано на работу ушла, — сестра Нина в доме за старшую. Ей тринадцатый год, Женьке — одиннадцать, мне — шесть, Саньке скоро четыре будет, через полторы недели.
Чего надо было делать, мы не знали и потому просто молчали, чтобы не побеспокоить, и смотрели на батю. А он вытянулся и лежал во всю свою длину и впервые за многие годы не кашлял.
— Исть будете? — вспомнила сестра свои обязанности.
— Угу, — закивали дружно. — А чё есть?
— Хлеб от деда Мороза.
— Давай!
Это был особый, зимний обряд. Сестра отрезала от буханки хлеба четыре ломтя, присыпала сверху солью и выносила на мороз. А мы сидели и ждали, когда дедушка Мороз три раза стукнет, хлеб заморозит. Ждать приходилось долго и сестра или старший брат рассказывали нам какую-нибудь сказку или историю. А потом брат выбегал смотреть — ударил ли Мороз как надо и если да, — приносил замороженный хлеб и мы с огромным удовольствием ели его, отгрызая острыми зубами по маленькому кусочку.
Вкуснятина!
Что такое медицинское заключение?
Мы и слов таких не знали.
От чего умер?
Бабушка Тяколиха сказывала — от осколка.
— Бродил он, окаянный, по нутренностям бати вашего и нашел свое место — перекрыл какой-то сосуд. И все. И кровь перестала бегать.
Такой диагноз озвучила наша другая, мамина бабушка. Она была непререкаемым авторитетом, матерью девяти наших мамок-теток и дядек. Любое ее слово мы воспринимали на веру. Как воспринимали на веру взрослые люди любое напечатанное в газете или услышанное по радио слово.
Брали ли нас на кладбище? Не знаю, в феврале всегда лютые морозы, аж треск стоит. Похороны запомнились только тем, что нам, мелкоте, дали по две печенки и по конфете в красивой обертке — невиданная роскошь!
Дядя Гера после женитьбы поселился в другом краю городка, его мы видели редко. Он и в памяти остался неясным пятном. Помню только худое, обтянутое сухой кожей лицо, клочок волос из-под кепки и большой нос. Носы — это у нас семейное.
А младший папкин брат, дядя Миша, запечатлелся много и четко.
В 44-м его освободили из фашистского плена и прямым ходом в Гулаг, до лета 51 года.
Это опять же авторитетная бабушка рассказывала. Ушел он на фронт прямо с завода, пешим строем — белобрысый да кудрявый. И домой через 10 лет вернулся белобрысым да кудрявым. Лег спать, наутро проснулся — все до одного волоска поседели и на подушке остались.
И стал он с той поры лысым, как тот Никита, который в каждой газете арбузом своим сверкает. А мы, мелочь, у его, у дяди Миши, все спрашивали:
— Дядь Миш! Дядь Миш! А ты в каком кармане расческу носишь?
Он в нашу сторону пару раз сапогом топнет, вроде, как гоняться задумал. Мы врассыпную, нам весело, отбежали, опять в стайку собрались и по новой дразниться. А что в голове его творится — разве ж нам есть до того дело.
К бывшим пленным отношение какое тогда было? Ясное дело. А детвора — она особенно безжалостна.
Дядя Миша из-за этого плена дважды пытался счеты с жизнью свести, в петлю лазил. Но как-то не шибко удачно. Вытаскивали, отхаживали.
Уже позже, в шестидесятых все-таки поймал момент, когда никого рядом не было, и в сарае на стропиле подцепил себя.
Теперь уже с концом.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
