
Бесплатный фрагмент - Блистательный Касимов и летописная Елатьма
Рассказы
Касимов и Елатьма: два берега одной Оки
Две летописи в камне и воде. Касимов с его ханскими мавзолеями XV века и Елатьма с петровскими верфями. В 1471-м касимовский хан присягал Москве, когда елатомские плотники строили струги для похода на Казань.
Общая судьба:
В 1543-м: текие Шах-Али в Касимове — и церковь с татарскими узорами в Елатьме
В 1918-м: расстрелы у мечети и собора в один месяц
В 1926-м: двери ханской мечети тайно вмуровали в елатомский Дом пионеров
Города-зеркала: где восток и запад России нашли общий язык. Купеческие особняки с татарскими звёздами, советские мозаики над древними стенами.
Приезжайте, пока Ока ещё соединяет эти миры.
Об авторе (с юмором)

Ваш гид по касимовским тайнам и елатомским курьёзам — историк-энтузиаст, который:
Умеет отличать ханский мавзолей от сарая ещё с пелёнок
Знает все 17 версий, куда делась золотая чаша Шах-Али (и где её искать после третьей рюмки)
Объединил три свои книги в один том, потому что устал объяснять, почему Елатьма — это «не тот город, где ёлки»
Когда-то скромный краевед, ныне — главный поставщик: Исторических сенсаций («Да это же петровская галера в вашем огороде!») Неудобных вопросов («А почему у вас в подвале ханская плита?») Идей для местных баек (теперь даже гиды верят, что Пугачёв прятался в елатомском колодце)

Его девиз: «История должна быть живой, даже если приходится оживлять её щепоткой вымысла и стаканом архивного пепла».
P.S. Автор до сих пор ищет того самого купца, который в 1847 году проиграл Елатьму в карты — если найдёте, сообщите. Бонус: экскурсия на ханский минарет с правом позвонить в колокол!
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ КАСИМОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
О городе, который помнит всё,
Касимов — это история, которая забыла постучаться в дверь и теперь скребётся в окно.
Здесь ханы пили чай из самоваров, которые позже попали в музей. Здесь купцы торговали рыбой, а теперь торгуют легендами. Здесь колокола звонили так громко, что их слышали в Москве — а теперь их можно купить на «Авито».
Эта книга — не учебник. Это байки, притчи и откровенный стёб над тем, как древний город стал частью «Золотого кольца», но так и не понял, что с этим делать.
Тут есть:
Правда (ну, почти); Вымысел (зато красивый); Ирония (куда ж без неё).
Читайте, смейтесь, злитесь — Касимов всё равно переживёт и это.
Автор (который однажды застрял в этом городе на три дня и теперь не может забыть вкус местной воблы)
Сказание о граде Городце Мещёрском
Основание и крещение
Во дни оны, когда земля Русская меж лесов да болот пробивала стези свои, воздвигнут бысть Градец Мещёрский — твердыня на рубежах Ростово-Суздальских. Летописцы первое слово о нём в лето 6660 (1152) положили, глаголя, что князь Юрий, прозванный Долгоруким, повелел заложить крепость сию, дабы стеречь пределы свои от ворогов. Но есть и иная быль, стародавняя, что стоял Городец уж во времена князя Глеба Муромского, крестителя земли Мещерской. В лето 6518 (1010) или близ того пришёл благоверный князь Глеб Владимирович с иноками муромскими, да освятил град сей крестом и молитвой. На камне у храма Георгиева начертано было: «Градец сей прия крещенiе от святого князя Глеба Владимiровича, на Муроме княжившаго». Тогда же, глаголют, воздвигли Богоявленскую обитель, иноческий оплот веры православной.
Монгольское разорение и возрождение
Пришли поганые татарове, попалили град, истоптали святыни. И перенесли люди град на Старый Посад, и стоял он там, пока царь Иван Грозный не даровал земли сии царевичу Касиму. Тайна кончины Александра Невского
Мудрецы спорят: где князь Александр, Невским прозванный, душу Богу предал? Одни глаголют — в Городце Волжском, иные же — в Городце Мещёрском. Иван Гагин, муж ученый, в лето 7351 (1843) изрек: «Не могло тело князя за девять дней от Волги до Владимира дойти, ибо путь дальний — лишних 350 вёрст. А от града нашего — ближе». Так, быть может, 14 ноября 1263 года принял схиму князь в Богоявленском монастыре, наречённый Алексием, и тут же отошёл в вечность. Под властью Москвы
В лето 6870 (1362) князь Александр Укович, владетель мещерский, продал град сей Дмитрию Донскому, князю московскому. Но недолго стоял град в покое — в лето 6884 (1376) огнём пожран был дотла. И восстал из пепла град Новый Низовой, и прозывался так до лета 6979 (1471), пока не стал Касимовым — но то уже иная повесть…
(Где-то за Окой, в тумане, сидят три старика на пеньках. Один лузгает семечки, второй чешет бороду, третий хрипит в дудку. И начинают баять…)
Глава 0. Когда ещё и князей-то не было
Лето 800-е. Болота. Много болот.
Жила тут чудь белоглазая — народ весёлый: в шкурах, с каменными топорами, но зато без налогов. Молились Солнцу, Волку и Большой Жабе (такая была, говорят, в озере — размером с избу).
А потом приплыли варяги — рыжие, в рогатых шлемах (хотя рога-то они потом отпилили — неудобно в лодке сидеть).
— Дайте нам дани! — орали.
— А вам за что? — спрашивала чудь.
— За то, что мы вас цивилизовывать будем!
И цивилизовывали — мечом по башке.
(Где-то вдали завыл медведь, нет это был не медведь, а пьяный варяг.)
Глава 1. Князь Глеб и его «добровольное» крещение
Лето 1010-е. Опять болота.
Приплыл князь Глеб Владимирович — лицом красив, а взгляд как у совы. С ним монахи, кресты и бочка вина (на всякий случай).
— Креститесь! — говорит.
— А зачем? — спрашивают местные.
— А то в аду гореть будете!
— А у нас тут и так болота горят…
Но Глеб был упрям.
Вариант 1: — Кто крестится — тому медку!
Вариант 2: — Кто не крестится — тому топором по лбу!
(Историки спорят, какой вариант правдивее. Но мед кончился быстрее.)
Итог:
Поставили крест. Основали Богоявленский монастырь. А волхвов — в реку (но они потом вылезли — болотные, живучие).
(Где-то смеялся леший.)
Глава 2. Юрий Долгорукий и его «великая стройка»
Лето 1152. Дождь. Снова дождь.
Приехал Юрий Долгорукий — руки длинные, мысли короткие.
— Что за городишко? — спрашивает.
— Да так… Местные рыбу ловят, в дуду дуют…
— Не порядок! Надо крепость!
И началось:
Рвы копать!
Тын ставить!
Налоги собирать!
А народ уже скучал по временам, когда только волхвы им голову морочили.
(Где-то подбили ворона. Или это был мытарь.)
Глава 3. Александр Невский: «Я умираю? Ну и ладно!»
Ноябрь 1263. Монастырь. Холодно.
Александр Невский (уже Алексий в схиме) лежит, кашляет.
— Братия… — хрипит.
Монахи напряглись — сейчас скажет что-то мудрое!
— Вы там… — князь махнул рукой. — …пельмени хоть сварили?
Монахи переглянулись.
— Нет, княже…
— Эх… — вздохнул Александр. — Ну хоть вина дайте перед концом!
(Вино дали. Князь улыбнулся и умер. А пельмени так и не сварили.)
Глава 4. Татары, огонь и Новый Низовой
1376 год. Всё горит. Опять.
Пришли татары — кривые, злые, на низких лошадях.
— Где золото?
— Да нету золота! — орали местные. — У нас тут болота, рыба да грибы!
Татары не поверили и сожгли всё.
Но русские — народ упрямый.
— Построим Новый Низовой! — заявил купец Терентий Рыло.
— А что, старый уже не модный? — спросил кто-то.
(Его быстро заткнули — не время для шуток.)
Глава 5. А что было ДО крещения?
(Тут вступает старый дед с дудкой и хитрым прищуром.)
— А до крещения-то, детки, жизнь была — хоть куда!
Волхвы предсказывали будущее (но всегда одно: «зима будет холодной»). Девки в лесу плясали — а кто видел, тот потом женился. Мёд пили — а потом утром жалели.
— А теперь что? — спрашивают дети.
— А теперь — крестятся, грешат, каются, налоги платят…
(Дед задумался.)
— Хотя мёд-то всё равно пили…
Эпилог. А правда ли всё это?
Кто знает…
Летописцы врали. Археологи копают не там. Волхвы всё равно где-то бродят.
Но если в полночь выйти к Земляному Стругу, можно услышать:
Пение древних (или это лягушки?). Звон мечей (или это кузнечики?). Глеба Муромского:
— Эй, ты! А крещёный?
(И если ответишь «нет» — он тебя покрестит. На всякий случай.)
КОНЕЦ
(или нет?..)
Сказание о Касимовском царстве
Татарский след в русской глубинке
(Где-то в дыму костров, под перезвон колоколов и азан с минаретов, рождается новая история…)
В горенке дымной, за братиной меду, три старца меж собой беседу ведут. Первый — татарин, в чалме, зубы золотом сверкают. Второй — поп местный, ряса в заплатках. Третий — воевода, нос красен, ус в пиве.)
Татарин: Слышь, поп, а ведаешь ли, как царевичи Касим да Якуб от брата родного утекали?
Поп: Ведаю, нечестивец! Как псы голодные, к князю Василью под крышко прибились!
Воевода: (икнув)
А князь-то наш, Василий Темный, хитрее лисицы был! Дал им городишко гнилой средь болот — мол, царствуйте, псы!
Татарин: Не гнилой, а славный град! Мечеть каменную Шах-Али воздвиг, минарет до небес!
Поп: (крестясь)
Ох, грехи тяжкие! На нашей земле басурманские кумиры!
Воевода: А Сююмбике-царица какова была? Говорят, Иван Грозный ее в клетке золотой возил!
Татарин: (махнув рукой)
Врешь, пьяная рожа! В телеге, как всех, везли. Да только слез ее никтоже не видел — гордая была!
Поп: А Саин-Булат-то, ха-ха! Крестился, дурак, думал царство заполучить!
Воевода: (хохоча)
Да Иван-то его на смех поднял: «На, Симеон, поиграй в царя!» А потом — бац! — в монастырь!
Татарин: (угрюмо)
А Ураз-Мухаммед хоть с «воренком» Тушинским за правду бился!
Поп: За какую правду, пес неверный? За мечты воровские?
Воевода: (наливая пиво)
Да плевать мне на ваши распри! Главное — что ныне Касимов наш, православный! Хоть и татарин каждый третий на базаре…
Татарин: (вставая)
И еще двести лет будем тут жить! Мечети наши — как кость в горле у вас!
(На том и разошлись. А на улице ветер гуляет меж минаретом и колокольней, да старухи-татарки с бабами русскими семечки щелкают — всем дела нет до былых распрей.)
«Год, когда Русью правил татарин (и все об этом забыли)
(невероятная, но правдивая история царя-однодневки)
Глава 1. Как татарин стал «русским царём»
1575 год. Москва. Иван Грозный в ударе.
Царь вдруг вскакивает с трона и орет боярам: — «Всё! Надоели! Ухожу в монахи! А царём будет… эээ… вот он!» — тычет пальцем в скромно стоящего в углу касимовского хана Саин-Булата.
Бояре переглядываются: — «Это который… татарин?» — «Бывший татарин! — поправляет Грозный. — Теперь он Симеон Бекбулатович, православный! И вообще — Чингизид, потомок самого Чингисхана! Круче нас с тобой!»
Так скромный хан из Касимова стал «Великим князем всея Руси».
Глава 2. Год абсурда
Что сделал «царь Симеон» за свой год у власти?
Подписывал указы, которые тут же отменял настоящий царь (Иван IV из-за кулис). Принимал послов — те кланялись, а потом тайком смеялись в бороды. Жил в роскоши (пока Грозный инсценировал «уход в монахи»).
Народ недоумевал: — «Это что, теперь у нас татарин царь?» — «Нет, — шептались умники. — Это у нас царь придуривается!»
Глава 3. Зачем это было нужно?
Версии:
1. Грозный боялся предсказаний (астрологи накаркали смерть царя в 1575 году).
2. Хотел проверить, кто предаст (многие бояре стали заискивать перед Симеоном — потом попали в опалу).
3. Просто прикол (Грозный любил странные шутки).
Симеон же честно старался, но… — «Иван Васильевич, а можно я хоть одно настоящее решение приму?» — «Не-а», — отвечал Грозный, жуя печенье.
Глава 4. Конец карьеры
Через год Грозный вернулся на трон: — «Ну что, Сеня, отдохнул? А теперь — пошёл вон!»
Симеона «понизили» до князя Тверского, а потом: Сослали в деревню. Ослепили (чтоб не претендовал). Заточили в монастырь.
Печальный итог: — Год «царствовал» — полжизни потом отбывал наказание.**
Глава 5. Последняя шутка истории
Когда Лжедмитрий I спросил слепого старика: — «Ну как, Сеня, может, опять тебя царем сделаем?» Симеон только охнул: — «Да ну вас нафиг! Я уже в прошлый раз понял, чем это кончится!»
Умер он в безвестности, а потомки предпочитали не вспоминать, что их предок целый год номинально правил Русью.
Эпилог. Почему все забыли?
Потому что это было нелепо (царь-татарин, который ничего не решал). Смешно (Грозный издевался над всеми). Неудобно (как объяснить, что Русью год правил крещеный хан?).
Зато теперь можно козырнуть: — «А знаете, что в XVI веке Россией целый год татарин управлял?» — «Не может быть!» — «Может! Только недолго музыка играла…»
P.S. Если ночью в Симоновом монастыре слышится тихий смешок — это Симеон. Он до сих пор не верит, что всё это было наяву.
«Год был — как сон. Только вот проснулся я в монастыре…»
«Царь на год: забытая история Симеона Бекбулатовича»
Глава 1. Неожиданный поворот судьбы
Октябрь 1575 года выдался холодным. Московский Кремль, окутанный утренним туманом, будто затаил дыхание в ожидании чего-то необыкновенного. В Успенском соборе собрались все знатные бояре, когда Иван Грозный неожиданно поднялся с трона. Его пронзительный взгляд скользнул по потрясённой толпе.
«Отрекаюсь!» — прогремел царский голос. В зале воцарилась мёртвая тишина. «Отныне вашим государем будет…» — пауза затянулась, «Симеон Бекбулатович!»
Из-за колонны вышел смуглый мужчина с характерными восточными чертами лица — бывший касимовский хан Саин-Булат, ныне крещёный Симеон. Его глаза отражали смесь ужаса и недоумения. Он-то прекрасно понимал: это не подарок судьбы, а опаснейшая игра.
Глава 2. Тень на троне
Коронация прошла с невероятной пышностью. Золотом шитые одежды, драгоценный венец, торжественные клятвы верности — всё как положено. Только вот…
«Ваше величество, как прикажете поступить с новгородскими бунтовщиками?» — почтительно склонился боярин Морозов.
Симеон открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент из-за резной перегородки раздался хорошо знакомый всем голос:
«Вешать! Всех до одного!»
Это был Иван Васильевич. Он не ушёл — он просто перешёл в тень, оставив на троне марионетку. Симеон сжал подлокотники трона до побеления костяшек. Он был царем, но не правил. Подписывал указы, но не решал. Принимал послов, но не влиял.
Глава 3. Закулисные игры
Тем временем при дворе началась странная вакханалия. Бояре, ещё вчера презиравшие «татарина», теперь наперебой старались заслужить его расположение. Князь Шуйский подарил редкого арабского скакуна. Годунов привёл красавицу-дочь «для услуг государю». Мстиславский, чья дочь была женой Симеона, и вовсе зачастил с визитами.
«Отец, они все словно с ума сошли», — признавался Симеон тестю.
«Не обольщайся, зятек, — хмурился старый Мстиславский. — Это не к тебе лезут — к власти. А ты… ты просто удобный мостик.»
Глава 4. Конец представления
Ровно через год спектакль внезапно закончился. Однажды утром Иван Грозный просто вошёл в тронный зал и сел на своё законное место. Симеону даже не дали слова сказать — жестом указали освободить трон.
«Благодарю за службу, — ухмыльнулся Иван. — Теперь можешь идти.»
И Симеон пошёл. Сначала в Тверь — номинальным князем. Потом — в ссылку. Затем — в темницу. В конце концов ослеплённый, сломленный старик оказался в Соловецком монастыре, где долгие годы ворочался на жесткой постели, вспоминая тот единственный год, когда он был… нет, не царём — пешкой в чужой игре.
Глава 5. Последнее прозрение
1616 год. Слепой старик умирал в маленькой келье. Его губы шевелились, бормоча что-то неслышное. Монах-прислужник наклонился:
«Что, отче?»
«Я понял… — прошептал Симеон. — Он выбрал меня не случайно… Не потому что я был безродным… А потому что… я был Чингизидом…»
Последний вздох вырвался вместе со словами:
«Он хотел… унизить… саму идею… ханской власти…»
Эпилог. Забытая тень
Сегодня мало кто помнит о царе, правившем Русью целый год. Его могила в Симоновом монастыре затерялась среди других. Но иногда, в тихие вечера, кажется, будто тень с характерной восточной внешностью бродит по кремлёвским стенам, вглядываясь (хоть и слепыми глазами) в лица современных правителей — не марионетки ли они все в чьей-то страшной игре?..
Эта история — не просто забавный исторический казус. Это притча о природе власти, о том, как легко стать пешкой в руках сильных мира сего, и о том, что настоящее правление всегда остаётся за кулисами. Симеон Бекбулатович стал зеркалом, в котором отразились все страхи и комплексы Ивана Грозного — и всей русской власти в целом.
Тени и звоны Касимова
Утро начиналось с переклички богов.
Сперва православный колокол с Успенской колокольни сбивал сонных голубей с крыш. Потом муэдзин с минарета растягивал слова молитвы, будто медовую нить. А в лесу за Окой, где дымились землянки мещеры, шаман в медвежьей шкуре бросал в костёр сушёных лягушек — для верности.
Базарное утро
На торгу Арсений-скорняк, крестясь, торговался с татарином Ибрагимом: — Шкуру лисицы за полтину? Да она ж гнилая! — Аллах свидетель — вчера ещё бегала!
Рядом мордвин Ергуша, не признающий ни Аллаха, ни Христа, учил русского парнишку: — Мёд с перцем — от лихорадки. А если баба не любит — подсыпь в пиво корень мандрагоры.
Судьба царицы
В ханском дворце Сююм-Бике разбивала фаянсовые чашки. Московский гонец, потупившись, докладывал: — Шах-Али согласен взять тебя в жёны, госпожа. И… воспитать сына твоего при московском дворе.
Она знала, что значит «воспитать». Утемеш-Гирей, трёхлетний хан, уже тянулся к игрушечной сабле.
— Скажи своему царю, — царица повернула к свету лицо, за которое давали стадо в сто коней, — что казанские женщины не становятся жёнами по приказу.
На другой день двадцать московских стрельцов повезли её в Касимов. По дороге царица выбросила в Волгу серебряное зеркало — подарок Шах-Али.
Вечерние тени
У мечети слепой азанчи пел о любви. В церкви дьячок, тайно нюхавший зелье от мордвы, клевал носом над псалтырью. А в лесу девки в вышитых рубахах водили хоровод вокруг дуба, где висели лошадиные черепа.
Город засыпал. Только Ока, помнившая и хазар, и булгар, шептала на перекатах: — Подожди… ещё немного…
Утром всё начиналось сначала.
P.S. Сююм-Бике умерла в Касимове через семь лет. Её сын крестился, получил имя Александр и служил у Ивана Грозного оруженосцем. А серебряное зеркало до сих пор ищут в песчаных отмелях — говорят, оно показывает не лицо, а судьбу.
«Шах-Али: хан, которого никто не любил (даже его собственная мать)»
Глава 1. «Уродливый принц»
Когда в 1516 году Шах-Али впервые въехал в Касимов на белом (почти) коне, городские собаки дружно завыли, а местные красавицы схватились за сердца — но не от восторга, а от ужаса.
«Батюшки! — ахнула старая татарка. — Да это же не хан, а ходячее предупреждение о вреде близкородственных браков!»
И правда — природа явно поиздевалась над бедолагой:
Уши как у слона (но без изящества)
Лицо как у переспелой дыни
Фигура, напоминающая мешок с мукой, упавший с верблюда
«Зато я — Чингизид!» — гордо заявлял Шах-Али, но народ в ответ только посмеивался: «Да у нас козлы во дворе и те чингизидами себя считают!»
Глава 2. «Карьера неудачника»
Три раза садился на казанский престол — три раза его с позором выгоняли. В Казани даже поговорка появилась: «Пришел Шах-Али — готовь чемоданы». В конце концов обиженный хан махнул рукой: «Да пошли вы все! Я себе новый Касимов построю! С мечетями, банями и борделями!»
И ведь построил! Правда, народ опять не оценил:
«Дворцы — для себя!»
«Тюрьмы — для нас!»
«А где же бани-то обещанные?»
Глава 3. «Любовь зла…»
Когда московский царь подарил ему в жены красавицу Сююмбике, весь Касимов ахнул: «Да она же сдохнет от одного вида!»
Но Шах-Али оказался романтиком:
Цветы под окна
Стихи, написанные кровью врагов
Ночные серенады (к счастью, Сююмбике была глуховата)
Глава 4. «Смерть с причудами»
Умер хан как жил — нелепо. Упал в лужу и захлебнулся (хотя лужа была глубиной три пальца). Народ сначала не поверил: «Не может быть! Такого урода и лужа не возьмет!»
Но факт есть факт. На похоронах плакали только московские послы — и то от смеха, глядя на его посмертную маску.
Эпилог. «Посмертная слава»
Сейчас экскурсоводы рассказывают: «Великий правитель, строитель, политик…»
А местные старики добавляют: «…и главный урод татарской истории!»
Мораль: можно построить город, но нельзя купить любовь. Особенно если у тебя уши торчком и попа как у бегемота.
Хан на белой кошме: кровавая сага Ураз-Мухаммеда»
Глава 1. Пленник с царской кровью
Москва, 1584 год. Шестнадцатилетний Ораз-Мухаммед, потомок великих ханов, ступает по брусчатке Кремля с высоко поднятой головой. Его привезли сюда как заложника, но в глазах юноши горит не страх, а вызов.
«Берегите этого щенка, — усмехается Борис Годунов, рассматривая пленника. — Из него может выйти отличный охотничий пес.»
Мальчишка сжимает кулаки, но молчит. Он уже понял главное правило выживания при московском дворе — зубы нужно показывать только когда готов кусать.
Глава 2. Восхождение
1590-е годы. Из тощего подростка Ораз превратился в статного воина. Шведские походы, крымские кампании, приёмы послов — везде он демонстрирует недюжинные способности.
«Ваше превосходительство, — шепчет ему на ухо дьяк Щелкалов, — царь Борис жалует вам Касимов.»
Ураз застывает. Касимов! Город, где правили его предки. Место, где он сможет наконец перестать быть заложником и стать хозяином.
Глава 3. Трон на белой кошме
23 мая 1600 года. Касимов ликует. Четыре крепких мурзы поднимают Ураз-Мухаммеда на белой кошме — по древней степной традиции.
«Аллаху акбар!» — грохочет толпа.
В этот момент хан ловит взгляд московского посла — холодный, оценивающий. Он понимает: Борис дал ему не подарок, а испытание. Касимов — это клетка позолоченная, но клетка.
Глава 4. Игра престолов
1605 год. Русь погружается в хаос. Ураз-Мухаммед наблюдает, как рушится мир, в котором он выстроил свою карьеру.
«Ваше величество, — докладывает нукер, — самозванец предлагает союз.»
Хан медленно поглаживает бороду. Лжедмитрий… Рискованно. Но Шуйский — ещё опаснее.
«Готовьте коней, — решает он. — Мы едем в Тушино.»
Глава 5. Охота на хана
Ноябрь 1610 года. Тушинский вор уже не скрывает подозрительности.
«Поедем на охоту, кузен, — улыбается он Ураз-Мухаммеду. — Обсудим дела без лишних ушей.»
Лес. Мороз. Внезапный удар ножом в спину.
«За что… — хрипит хан, падая на снег.
«За то, что ты настоящий, — шепчет убийца. — А мы все здесь — самозванцы.»
Глава 6. Кара
11 декабря 1611 года. Лжедмитрий II наслаждается зимней прогулкой. Внезапно ногайский князь Урусов выхватывает саблю:
«Это за Ураз-Мухаммеда, собака!»
Голова самозванца катится по снегу, оставляя кровавый след. Месть свершилась.
Эпилог. Камень памяти
1850 год. На заброшенном кладбище Касимова находят надгробие с высеченной надписью: «Здесь лежит хан Ураз-Мухаммед, предательски убитый 22 ноября 1610 года.»
Старый мулла качает головой: «Он был последним настоящим ханом. После него Касимов стал просто… городом.»
Ветер шевелит высохшую траву у могилы. Кажется, слышен топот конницы — то ли воспоминание, то ли предвестие. Ведь история, как известно, имеет свойство повторяться…
КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА
(Страшная повесть о царевой избраннице)
Часть первая. Выбор
1647 год. Москва. В палатах царя Алексея Михайловича пахнет воском, ладаном и женским потом. Двести девиц, собранных со всей Руси, стоят, потупив взоры.
— Эта слишком полная, — шепчет боярин Морозов, указывая на рязанскую боярышню. — А у этой родинка на щеке — к бедам, — кивает духовник.
Но юный царь вдруг останавливается перед Афимьей Всеволожской — дочерью касимовского воеводы.
— Ты откуда? — спрашивает он. — Из Касимова, государь, — девушка едва дышит.
И тут происходит невозможное — царь протягивает ей платок и кольцо.
Придворные бледнеют.
Часть вторая. Заговор
В теремных сенях шепчутся: — Касимовская?! Да её отец — хуже татарина! Он в лесных разбойниках шатается! — Говорят, он у себя в уезде колдунов укрывает…
А в покоях царевен три боярыни толкут в ступке корешки: — Белый аконит, черный корень… — Да не жалей, подсыпь ещё! Чтоб не очнулась!
Часть третья. Обморок
День обручения. Афимью ведут под руки в парчовом наряде, усыпанном жемчугом из касимовских кладов.
— Готова ли? — спрашивает царь.
И тут…
Девушка вдруг вскрикивает, хватается за горло и падает как подкошенная.
— Бес в неё вселился! — орет поп. — От радости помутилась! — лжёт боярин Морозов.
Но шведский посол записывает в дневник: «Руки у неё посинели, как у удавленницы…»
Часть четвёртая. Возвращение
Через месяц в Касимов въезжает чёрная повозка. Вышедшая из неё Афимья — бледная тень прежней красавицы.
— Что с тобой? — плачет отец. — Отравили… — шепчет она. — За то, что не боярская…
Наутро воевода Всеволожский уходит в мещёрские леса — искать травников, что могут спасти дочь.
Но поздно.
Афимья умирает в ночь на Купалу. Говорят, перед смертью смеялась и звала царя играть в горелки.
Часть пятая. Проклятие
С тех пор:
Каждый год 6 июня (день обручения) в Касимове находят мёртвых голубей с переломанными крыльями. В бывшем воеводском доме (ныне музей) по ночам слышится смех. А если встать у развалин ханской бани в полнолуние — можно увидеть тень девушки в свадебном наряде.
Она всё ещё ждёт, когда за ней приедет царский поезд.
Только не везите её в Москву.
КРОВЬ И КАМЕНЬ
(Последние дни ханского Касимова)
1681 год. Татарская слобода. Ночь перед Успением
Фатьма-Султан сдирает с шеи жемчужное ожерелье — подарок покойного мужа. На столе:
Распятие (тайно купленное у армянского купца)
Нож (на случай, если не поверят словам)
Чернильница (чтобы написать царю)
В дверь стучат трижды — как тогда, когда принесли весть о смерти сына.
— Входите, — говорит она по-татарски, пряча крест в складках халата.
Тени убийц скользят по стенам. Последнее, что видит ханша — отражение в медном тазу:
Собственные глаза (широкие, как у затравленной ланчи)
Кривой ятаган (который когда-то висел в тронном зале)
Утром объявляют: — Скончалась во сне от сердечной немощи.
Но в Пушкарской слободе уже топчутся лошади московских дьяков — забирать ханскую казну.
1700 год. Пьяный звонарь и «нарышкинские штучки»
Купец Гагин (потомок тех самых касимовских Гагиных, что лили колокола для Ивана Грозного) бьет скребком по известняку:
— Не по-нашему! — орут староверы. — Узоры эти — бесовские!
Но Иродион уже видел Москву. Он знает:
Кудри каменные — теперь в моде
Кокошники над окнами — царь одобряет
Ангелы с пухлыми щеками — чтоб не как у татар, безликие
Когда первую службу служат, под куполом вдруг раздается хохот — это пьяный звонарь Титка залез на хоры:
— Эй, Гагин! А где же полумесяц-то?
Храм стоит. Полумесяц (который триста лет венчал минарет) валяется в овраге.
ЧТО ОСТАЛОСЬ
Призрак Фатьмы (ходит по ночам между мечетью и церковью, ища то ли крест, то ли ятаган)
Кровь в трещинах Георгиевского храма (если приложить ухо, слышно татарское проклятие на смеси трех языков)
Дух Гагина (стучит молотком по новостройкам — проверяет, нет ли «басурманского» стиля)
А минарет все еще смотрит на Оку. Как свидетель. Как обвинитель.
P.S. В 2003 году археологи нашли под алтарем Георгиевской церкви:
Женский череп (без нижней челюсти)
Обрывок шелковой ткани (с арабской вязью: «Нет бога кроме…»)
Реставраторы быстро замуровали находку. Слишком уж она портила «нарышкинский» стиль.
Алянчиковы: от хомутов до хересов»
(подлинная касимовская сага с прибаутками да нравоучениями)
I. Как ханшу ослушались
«Времена оны, когда ещё ханша Фатьма-Султан-Сеитовна по Касимову в золочёной колымаге разъезжала, да не на клячах, а на людях запряжённых, случилось неподобное дело…»
Подъехала как-то к роду Алянчиковых (тогда ещё просто «чёрным людишкам»): — «Впрягайтесь!» — молвила ханша. — «Не впряжёмся!» — отвечают. — «Ах вы, аляны!» — всплеснула руками Фатьма (что значит «лентяи» по-татарски).
С той поры:
Ханша — пешком. Семейство — прозвано Алянчиковыми. Город — избавлен от унизительных упряжек.
«Кто бунтует — тот богатеет» — гласит касимовская пословица.
II. Винные фокусы
«Не было у барина гроша, да вдруг алтын» — так и Алянчиковы из бунтарей да в винные короли выбились.
Иван Осипович Алянчиков — фигура! Городской голова (два срока!). Первый поклон на улице — ему, а не городничему. В собор входит — народ расступается, как перед архиереем.
«Деньги — смола: к чему пристанут, то и вытянут» — смекал Иван Осипович, скупая винные откупа.
III. Дети-вольнодумцы
«Ученье — свет, а неученье — чуть свет и на работу» — но с детьми вышел конфуз.
Яков да Николай Алянчиковы, начитавшись французских энциклопедистов: Бога отрицают (ужас!). Власть критикуют (скандал!). По трактирам философствуют (позор!).
Отец, человек простодушный, лишь крестится: — «Батюшки, протопоп! Уйми их, ради Христа!»
«Дитя не мыто — не кутит, а как вымоют — не уймёшь» — вздыхали касимовцы.
IV. Дом-недоделка
«Хоромы — что сарафан: и красота, и обуза» — а у Алянчиковых и вовсе история с предсказанием.
Особняк на берегу Оки (Гагин проектировал!): Подвал — лавки да склады («деньги любят прохладу»). Первый этаж — конторы («счёт да мера — дуракам вера»). Второй этаж — бальные залы («пируй, да долгов не забывай»). Бельведер — для вида да раздумий («выше крыши — ближе к греху»).
Но! Гадалка на базаре накаркала: — «Достроишь дом — помрёшь!»
Иван Осипович — хитрец: Портики — долой! Балконы — не надо! Галереи — и так сойдёт!
«Судьбу не обманешь, а попробовать можно» — усмехнулся он… и всё равно умер.
.Наследие
«Что было, то прошло, а что будет — Бог весть» — ныне от дома-легенды остались: Стены — потрескавшиеся. Слава — не забытая. Анекдоты — вечные.
«Алянчиковы жили — шумели, а мы их помним — да не тужим» — говорят в Касимове.
P.S. Говорят, дух Ивана Осиповича до сих пор бродит по Оке и считает упущенную прибыль. А сыновья-вольнодумцы в полночь читают Вольтера в руинах бельведера.
«И чёрт с ними, с алянами!» — вздыхает тень ханши.
(Конец. А может, начало новой купеческой саги?..)
Мораль:
Бунтуй — но с умом. Детей учи — да сам не зевай. Дом строй — но гадалкам не верь.
Мишари: кровавый рассвет над Касимовом»
(история исхода, рассказанная у догорающего костра)
1768 год. Касимов. Последний рассвет ханского города.
Дым от горящих архивов стелился по Соборной площади. Генерал Симонов, облизывая губы, наблюдал, как его солдаты выламывают резные плиты из стен Ханской мечети.
«Ломайте быстрее! К утру чтоб и камня на камне!»
Из толпы вырвался седой мурза в порванном халате: «Это наши предки строили! Ты что делаешь?!»
Ответом был пистолетный выстрел.
«Три дня спустя. Тайный сход у реки.»
Десять семей собрались в лощине. Впереди — Бектемир-сеид с перевязанной головой.
«Слушайте все! — его шёпот резал темноту. — Москва отняла у нас всё: мечеть, земли, честь. Но не отнимет последнее — нашу кровь.»
Из толпы выступила молодая женщина, прижимая к груди ребёнка: «Куда нам идти? В лесах — разбойники, на дорогах — драгуны!»
Старый кожевенник хрипло рассмеялся: «А помните Сафаджай? Там ещё наши живут. Там… мы сможем начать снова.»
«Дорога. Первая смерть.»
Шли ночами, прятались днём. На третий день наткнулись на казачий разъезд.
«Стой! Кто такие?!»
Бектемир шагнул вперёд, прикрывая женщин: «Просто люди, ищем новую…»
Выстрел оборвал фразу. Пуля прошла навылет.
«Бегите! — закричал он, падая. — Пока я…»
Второй выстрел добил его. Но его жертва не была напрасной — остальные успели скрыться в лесу.
«Сафаджай. Первая ночь на новом месте.»
Измождённые путники стояли перед воротами села. Навстречу вышел бородатый старик с мушкетом.
«Откуда?»
«Из Касимова…»
«Касимова? — лицо старика исказилось. — Да его же вчера…»
Женщина упала на колени: «Нас всего двадцать. Детей спрятали…»
Тишину разорвал детский плач. Старик опустил мушкет.
«Чёрт с вами. Заходите. Но запомните — здесь вы теперь мишари. Касимов — мёртв.»
«Эпилог. 1812 год. Сафаджай.»
У старой мечети стоит юноша. На нём — новенький мундир Нижегородского ополчения.
«Ты правда пойдёшь воевать за них? — шипит седая старуха. — Они же…»
«Бабушка, — он поправляет эполет, — я иду воевать не за них. Я иду убивать тех, кто сжёг наш Касимов.»
На стене мечети едва видна старая надпись: «Бектемир-сеид. 1768. Помните».»
(Конец. Или начало новой мести?..)
Слово о Касимове в державе Российской
(Пишучи сие, перо в чернила обмакиваю, да поминаю, как град сей в лоно государства Российского пришел…)
О пресечении ханского рода
В лето 7189 от Сотворения мира (1681 от Рождества Христова) преставилась последняя владетельница Касимова, Фатима-Султан бинт Шах-Али, и не осталось более наследников по крови ханской. Тогда Благочестивейший Государь Феодор Алексеевич указал: Ханство Касимовское упразднить
Земли приписать к дворцовым волостям
Татар вельможных в службу государеву взять
И разошлись последние мурзы да беки — кто в Москву, кто в Казань, а иные и вовсе в степи дикие. О строениях ханских
Осталось же от времен тех: Минарет каменный времен царевича Касима — стоит и ныне, хоть и без мечети (разобрали ее в смутные времена)
Две текии (мавзолеи царские), где лежат: Шах-Али хан
Афган-Мухаммед султан
Мечеть новая, что выстроили уже при царе Михаиле Феодоровиче
(Проходящий мимо старец кашляет в кулак и бормочет: «А все стояло бы как новое, кабы не наши воеводы-казнокрады…")
О устройстве градском
В XVII веке делился Касимов на три части: Татарская слобода да Старый Посад
Там жили князья татарские
Судились по Шариату
Платили ясак особый
Ямская слобода
Под Москвою прямо
Ямщики — народ буйный да пьяный
Судил их Приказ Ямской
Прочие слободы (Марфина и иные)
Под воеводою касимовским
Жили стрельцы да посадские
Правду творили по Судебнику
(Тут писец делает пометку на полях: «А слобода Марфина — там ткачихи жили, што царю ризы шили»)
О губернском устроении
В лето 7227 (1719) Петр Алексеевич, император всероссийский, указал: Касимов к Переяславль-Рязанской провинции приписать
Воевод сменить на комендантов
Татар княжеского рода в ревизские сказки вписать
И пошел град жить по-новому — уже не ханская столица, но уездный городок в губернии Московской. (На сем и закончу, ибо чернила сохнут, а глаза устали. А кто читать будет — помяни добром старых ханов касимовских, ибо и они часть земли Русской стали.)
Конец слова
Касимов: Угасание ханства
1681 год. Последняя зима Фатимы-Султан
Дым от печей стелился низко над слободой, смешиваясь с утренним туманом. Фатима-Султан, последняя правительница Касимова, сидела у резного окна, обхватив колени иссохшими руками. За стеклом — знакомый с детства минарет, тот самый, что возвел ее прадед. — Ханство кончилось, госпожа, — шептал старый мулла, поправляя ей подушки. Она молчала. В горле стоял ком — не от болезни, а от обиды. Москва давно правила здесь, но хоть титул оставили. А теперь и этого не будет. — Скажи Ахмету, пусть готовит карету. Поеду в Москву — кланяться царю. Голос ее звучал спокойно, только ногти впились в ладони до крови. Старый Посад. Вечер того же дня
В татарской слободе уже знали. Купец Абдулла, разгружая тюки с шелком, сплюнул сквозь зубы: — Ну и что? Москва и так всем заправляла. Теперь просто бумажка появится. — Не в бумажке дело! — взвизгнула старуха Зулейха, разливая чай. — Без ханского двора кто мечети содержать будет? Кто суды по шариату проводить? Скоро и минарет этот снесут!
Молодой мулла Юсуф мрачно потупился. Он-то помнил, как десять лет назад воевода приказал снять полумесяц с мечети — «чтоб не слишком высоко был». Ямская слобода. Кабак «У трёх дорог» — Значит, теперь мы — прямые холопы государевы? — хрипел ямщик Гаврила, опрокидывая чарку. — Ага, — усмехнулся подьячий Митяй, — только не холопы, а «верные слуги». И подати на три алтына больше. Из угла донесся хриплый смех: — Зато татарв этих князей наконец по струнке! Теперь у них ни земель, ни судов своих. Как все. Тишина. Кто-то негромко чертыхнулся. Все знали — касимовские татары хоть и «басурмане», но своих в беде не бросали. А вот от московских приказных такой милости ждать не приходилось. Марфина слобода. Ткацкая мастерская — Слышала? — шептала девка Арина, сматывая пряжу. — Говорят, теперь воевода один на весь город будет. И судить всех по-своему. Старая ткачиха Марфа, не поднимая глаз: — А нам-то что? Мы и при татарах ситцы ткали, и при воеводах будем. Только подати, поди, опять поднимут…
За окном зазвонили к вечерне. Колокол Успенской церкви и крик муэдзина с татарской стороны слились в странный, дисгармоничный звон. 1719 год. Приезд государева чиновника — Слушай указ! Отныне Касимов — часть Переяславль-Рязанской провинции!
Толпа молчала. Кто-то сзади пробормотал: — Опять переписывать нас будут…
Чиновник, морщась от ветра, развернул свиток: — Все прежние льготы татарских мурз — отменить. Земли перемерить. Ревизские сказки составить!
У мечети стоял Юсуф — уже седой, с глубокими морщинами. Он смотрел на минарет, на мавзолеи предков, и думал о том, что теперь все это — просто «достопримечательности». Не память о царстве, а «бывшие ханские постройки». — Аллах даст, хоть стоять будут, — прошептал он и пошел записываться в новую ревизию. Эпилог. 1720 год. Рыночная площадь
На базаре по-прежнему торговали и татары, и русские. Только теперь: — Эй, мурза! — кричал воеводский пристав. — Плати пошлину как все! — Я не мурза, — устало отвечал старик в поношенной чалме. — Я теперь купец второй гильдии. По новым законам. А на окраине, у мавзолея Шах-Али, играли дети — и русские, и татарские. Им было все равно, чьи это кости лежат в камне. Главное, что холм удобный для катания. Ветер крутил пыль над площадью, смешивая обрывки татарской речи, русский мат и немецкие команды артиллерийских офицеров — Петр любил отправлять сюда «на практику» иноземных специалистов. Касимов больше не был ханством. Он стал просто местом на карте — со своей пестрой, неудобной, но уже общей историей.
КАМЕННЫЙ ШУТ
(Последняя шутка Ивана Балакирева)
1740 год. Касимов. Татарская гора
Бывший царский шут Иван Балакирев покупает целый воз сена — вместе с телегой, колесами и кривым татарским возницей.
— Выпрягай кобылу! — командует он, поправляя прапорщицкий мундир, в котором уже три года не мылся.
Толпа собирается на обрыв: — Опять дурачится…
Телега с воем летит в Оку. Сено взрывается золотым смерчем. Татарин крестится (хотя он мусульманин).
— Вот вам и ханская потеха! — хохочет Балакирев, швыряя в толпу серебряные кресты (украденные у попа).
ТРИ ЖИЗНИ ОДНОГО ШУТА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Носил любовные записки Екатерины к камергеру Монсу
Когда Монсу отрубили голову, молчал под батогами (хотя мог бы выгородиться)
Получил в награду: Прапорщика (чтоб знал свое место)
Касимов (чтоб подальше от дворца)
ХАНСКАЯ
Жил в бывших ханских палатах (где ползал по коврам и лакал кумыс из ханской чаши)
Развлекался: Кормил свиней в мечети
Кричал «Аллах акбар!» во время церковной службы
Заставлял татар петь русские частушки
КАМЕННАЯ
Умер в одиночестве, обняв надгробную плиту (которую сам себе выбил)
На плите написано: «Здесь лежит шут. Наконец-то серьезный»
В 1950-х плиту нашли под алтарем Георгиевской церкви
Священник велел закопать обратно («Нечистое тут лежит!»)
Но по ночам: Слышен хохот из-под пола
Кресты на иконах переворачиваются вверх ногами
А если оставить у алтаря рюмку водки — к утру она будет пуста
P.S. Говорят, Балакирев так и не умер. Он просто притворился камнем — чтобы посмотреть, что будет дальше.
(И ему нравится то, что он видит.)
«Касимовская твердыня, или Как татары генерала посрамили»
(быль-притча о вере, ярости и камнях, что кричат, когда люди молчат)
I. Генеральский каприз
«Лета 1768-го, когда ещё Касимов ханской солью да медными котлами славился, вздумал генерал Симонов богоугодное дело свершить…»
Явился он к Ханской мечети (что стояла четыреста лет — дольше, чем вся его родословная), да как гаркнет: — «Разобрать! На кирпичи! Абы порядок был!»
«Порядок» сей заключался в том, чтобы:
1. Минарет — долой («Высоченный, ровно стрела в небо — не по чину!»).
2. Стены — на казённые амбары.
3. Святые плиты — под мостовую («Пущай православные попирают!»).
II. Мурзин гнев
«Не тронь старого камня — сам в прах обратишься» — предупредил генерала мурза Бахтияр (потомок тех самых ханов, что Оку крестили).
Но Симонов ухом не повёл: — «Каменщиков! Ломы! Живо!»
Утром подрядчик Иван Кривой (прозванный так за привычку к казнокрадству) уже ковырял стену…
III. Кара Аллаха
«Кто мечеть ломает — тот себе могилу роет» — проворчали старики.
И не соврали: К полудню Кривого схватили у Торговых рядов. Связали руки верёвками (как настоящему разбойнику). Отдубасили так, что «едва душа в теле осталась».
«Привели в канцелярию — а он сизый, как баклажан в постный день» — записал испуганный подьячий.
IV. Камень падает — вера остаётся
«Сила — что дождь: шумит громко, да быстро уходит» — но генерал упёрся:
1. Каменщиков прислал новых (из Рязани — «татарского страха не ведающих»).
2. Мечеть — всё равно разобрал (кирпичи в губернаторский погреб увёз).
3. Мурзе — выговор («Бунтовщик!»).
Но!
Через год Симонов сгорел от неизвестной болезни (шептались — «аллах покарал»). Кирпичи из мечети пропали (то ли в Оку сбросили, то ли тайком в кладку новых домов вмуровали). А память — осталась.
«Разрушишь мечеть — не разрушишь веру» — гласит старая татарская пословица.
V. Эпилог
Ныне на том месте: Трава растёт гуще, чем во всём городе. Старики клянутся, что в полночь слышен азан (зов на молитву). А генеральские потомки… из Касимова съехали.
«Камень — немой, да правду скажет» — вздыхают касимовцы.
P.S. Говорят, если приложить ухо к старой кладке в центре Касимова, можно услышать, как Кривой подрядчик стонет:
— «Ой, не надо! Я больше не буду!»
А тень мурзы ему в ответ:
— «Знать бы да ведать!»
Мораль:
1. Не трогай святыни — даже если погоны звенят.
2. Гнев веры — тише грома, да крепче гранита.
3. Историю можно сломать, но не переписать.
«Касимов помнит всё» — даже то, что власти хотели бы забыть.
Мечеть, которую не сломили: как касимовские мурзы камни в правду превратили
(история возрождения, записанная в камне и памяти)
Глава 1. Купец, купивший святыню
1768 год. Разрушено — но не покорено.
Едва генерал Симонов кирпичи вывез, как касимовский купец Хайрулла Кастров (человек с деньгами тугой мошной да совестью чище речного жемчуга) выкупает землю под мечетью.
— «Не бывать святому месту пустым!»
А следом — императорский указ (то ли совпадение, то ли мурзы в Петербурхе шепнули).
Глава 2. Каменная летопись
Надпись у входа, выбитая в 1182 году хиджры (1768):
«Соорудили: Бектемир-сеид, Бурхан-сеид, Ибрагим мурза Чанышев, Абдулла-мурза…»
(и ещё 12 имён — все знатные, все — потомки ханов и воинов)
Что знаем о них? Сеиды — потомки Пророка. Мурзы — дворяне Касимовского ханства. Чанышевы, Максютовы, Шакуловы — фамилии живы до сих пор.
«Кто камни кладёт — тот имя своё в вечность вкладывает» — гласит татарская мудрость.
Глава 3. Как строили?
Археологи раскопали правду:
Первая мечеть (XVI век): Один этаж. Чернолёная черепица (как у ханских бань). Стрельчатый вход — «словно сабля в ножнах».
После 1768 года: Снова один этаж (денег хватило только на деревянный тёс вместо крыши). Скромно, но крепко — «как вера в сердцах».
XIX век — роскошь: Два этажа!
Железная крыша с золотым полумесяцем (чтобы «луна над Касимовом — своя была»).
Глава 4. Почему Пётр I ни при чём?
Миф: «Пётр мечети рушил!»
Правда:
Пётр I в Касимове не был (да и татар уважал — своих мусульман-гвардейцев имел). Разрушил только Симонов — обер-шталмейстер (начальник конюшен!), возомнивший себя царём.
«Конюх святыню ломает — да только себя позорит» — смеялись потом татары.
Глава 5. Мечеть сегодня
Возвращена верующим (татарской общине). Минарет снова виден за 10 вёрст. Намаз читают потомки тех самых мурз, что в 1768 году кирпичи носили.
«Что разрушено — восстановится. Что забыто — напомнится» — шепчут стены.
Эпилог. Тени у минарета
Говорят, если встать на закате у мечети, можно увидеть:
Хайруллу Кастрова, пересчитывающего мешки с деньгами (на ремонт). Генерала Симонова, который бессильно бьёт кулаком в запертые двери. Старую плиту, где 17 имён светятся, как звёзды.
А на вопрос: «Кто же спас мечеть?» — ветер с Оки отвечает:
— «Те, чьи имена камень помнит…»
(Конец. Но не истории.)
P.S. Потомки Бектемира-сеида до сих пор живут в Касимове. Если встретите — спросите про мечеть. Они расскажут. Не по книгам — по крови.
«В Касимове даже камни говорят по-татарски» — и это правда.
«Тайна комиссара Скорнякова, или Заговор чугунных перил»
(жуткая, веселая, страшная, ироничная история в красках, лицах, диалогах и интригах)
Глава 1. Дом, который построил Баташов
Касимовская Соборная площадь в тот вечер дышала осенней сыростью. Луна, словно подкупленная, пряталась за тучами, оставляя лишь рваные просветы над особняком Скорнякова. Дом стоял, как надменный старик, — толстые стены, каменные ворота с выщербленными львиными головами, чугунные перила, отлитые на Баташовских заводах. Говорили, что если провести рукой по этим узорам, можно нащупать следы расплавленного серебра — будто бы его подмешивали в металл, чтобы скрыть… ну, это уже зависело от фантазии рассказчика.
— «И чего это ты, Федор Семеныч, стены в два метра толщиной выстроил? От соседей прячешься или от совести?» — подвыпивший купец Губошлепов тыкал пальцем в кирпичную кладку, пока комиссар Скорняков хитро щурился, поправляя орден на груди.
— «От сквозняков, милейший. Да и… касимовские ветра, знаешь ли, бывают злые. Особенно когда с Гуся-Железного дуют».
Тут все закатывали глаза. «Гусь-Железный» — вот оно, запретное слово. Место, где братья Баташовы ковали не только железо, но и судьбы тех, кто знал слишком много.
Глава 2. Лабиринт, которого не было
Прошли годы. Скорняков умер — то ли от апоплексического удара, то ли от ножа в темном переулке (версии расходились). Новый хозяин, купец-старообрядец Ермил Прокофьич, решил перестроить дом.
— «Ломайте стены!» — командовал он рабочим.
Те ломали. И вдруг…
— «Батюшки! Да тут целый коридор!»
За первой стеной открылась вторая. За ней — узкая лестница, ведущая вниз. А там — комната с облупившейся киноварной краской, столом, заваленным желтыми картами, и… тремя скелетами в камзолах екатерининской эпохи.
— «Игроки, что ли?» — перекрестился Ермил Прокофьич.
— «Или проигравшие» — мрачно пробормотал подмастерье.
В углу валялась ржавая чеканка с изображением коня — точь-в-точь как на гербе Скорняковых. Только у этого коня… не было головы.
Глава 3. Призрак лейб-кучера
Ночью Ермил Прокофьич проснулся от стука копыт. Во дворе, где уже сто лет не держали лошадей, кто-то лихо крутил тройку.
— «Эй, хозяин! — раздался хриплый голос из тьмы. — Ты моего коня не видал? Голову ему, сукины дети, отрубили…»
Тень в камзоле и ботфортах шаталась у ворот. В одной руке — кнут, в другой — бутыль с надписью *«Гусь-Железный. Настоящая. 1762 год»*.
— «Это ж… лейб-кучер Скорняков!» — охнул Ермил Прокофьич и рухнул в обморок.
Утром рабочие нашли его в тайной комнате. Он сидел за тем самым столом, перед тремя скелетами, и строчил что-то пером.
— «Что вы тут делаете?»
— «Протокол допроса… Они все признались» — прошептал купец, показывая на кости. «Играли в штос с Баташовым. Проиграли. А потом… увидели, как он фальшивые ассигнации печатает».
Рабочие переглянулись.
— «Ну и?»
— «Их замуровали. А коню… ну, вы поняли».
Глава 4. Веселые похороны
На следующий день Ермил Прокофьич велел заложить тайные комнаты кирпичом. Но когда кладка была готова, со стороны Гуся-Железного донесся звон колоколов.
— «Это же… Баташовские заводы! Они же давно закрыты!»
В тот же миг чугунные перила на лестнице раскалились докрасна и сквозь узоры проступили буквы:
«Кто в доме Скорнякова спрятался — тот от Баташова не укрылся».
Ермил Прокофьич грохнулся на пол. Когда его подняли, он бормотал одно:
— «Коня… Коня!..»
Говорят, его отправили в сумасшедший дом. А дом Скорнякова стоит до сих пор. И если ночью приложить ухо к стене, можно услышать, как где-то внутри шепчутся три скелета:
— «Пасуйте!» — «Козырь!» — «Гусь!»
И тихий смех.
(Конец. Или начало?..)
P.S. Теперь, проходя мимо этого дома, касимовцы крестятся. А чугунные перила… они до сих пор теплые.
«Разбойничья песня, или Как касимовские купцы с призраками торговались»
(продолжение жутко-весёлой саги в красках, лицах и диалогах)
Глава 5
Муромский лес и его мелодичные обитатели
Касимовские купцы славились двумя вещами: умением считать деньги и глупостью, с которой они эти деньги теряли. Особенно — в Муромском лесу. Там, среди сосен, что «стонали, как купцы после бани», орудовал самый вежливый разбойник на Руси — атаман Гурий Поцелуев. Он грабил под музыку. Буквально. — «Стой, купец! — кричал он, выскакивая на дорогу. — А ну, запоешь „Время! веди ты коня…“ — или кошелёк на землю!»
И ведь пели! Касимовские толстосумы, дрожа от страха, затягивали романс Варламова, а Гурий, утирая слезу умиления, отпускал их с миром… но забирал ровно половину товара. — «Искусство, братцы, требует жертв! — объяснял он своим молодцам. — А я, как человек тонкий, жертвую только половиной». Но однажды…
Касимов уездный
Хроники губернского городка
1773 год. Императрица сказала — городок записался — Касимов отныне — уездный город! — возвестил чиновник, размахивая указом. — А что это значит? — спросил купец Абдулла, поправляя тюбетейку. — Значит, теперь у нас герб будет! — радостно воскликнул городничий. — И налоги новые, — мрачно добавил подьячий. Герб, кстати, нарисовали впопыхах: рыба на голубом фоне (потому что Ока рядом) и какой-то якорь (видимо, для солидности).
Касимовские картинки
1812 год. Госпиталь в трактире «У Перекатова» — Ваше благородие, да он же весь в червях! — фельдшер Степан тычет пальцем в рану гусара. — Черви рану вычищают, — студент Достоевский (будущий знаменитый врач) равнодушно отливает водку в чайник. — Главное, чтоб не сбежали. На соседней койке унтер кричит: — Сестру! Сестру милосердия! — Какая тебе, сука, сестра? — орет из-за перегородки солдатка Дарья. — Я за три дня семерых отпоила, теперь сама как шальная!
В углу дьячок из Богоявленского монастыря пытается соборовать умирающего француза: — Репетируй за мной: «Господи, помилуй мя…»
Француз блеет: — «Жё… мё… па…»
1861 год. Касимовский базар в день отмены крепостного права — Значит, я теперь свободный? — мужик Еремей щупает свой живот, будто ищет, где там воля зашита. — Свободный, — подтверждает пристав, забирая у него последний гривенник. — Теперь можешь свободно помирать с голоду. Татарин Ахмет торгует воблой: — Бери, крестьянин! Первая вобла свободного человека!
У кабака «Ока» бывший крепостной художник Макар рисует портрет барина: — В профиль, вашескородие? — В профиль, но чтоб все ордена были анфас!
1897 год. Вечер в трактире «Стрелка» — Я тебе какой гвоздь дал? — кузнец Герасим тычет пальцем в стол. — Самый что ни на есть касимовский! — Он у меня в бочке с селедкой три месяца пролежал, — огрызается рыботорговец. — Теперь вся селедка на гвоздях!
В углу два семинариста спорят: — В Питере, говорят, электричество есть! — Врешь! Это у немцев. У нас если и будет, то только для губернатора. На улице пьяный чиновник целует будку: — Милая моя канцелярия…
1910 год. Железнодорожная лихорадка — Паровоз будет! — мальчишки носятся по Старому Посаду. — От Рязани до нас рельсы кладут!
Старый Юсуф сидит у минарета, поплевывает в сторону Оки: — При ханах я на коне за два дня до Казани доезжал. А эта ваша железяка только дымить умеет. В редакции «Касимовского листка» журналист Смирнов сочиняет: — «Наш город, украшенный древними памятниками, с нетерпением ждет цивилизации…»
Редактор перечеркивает: — Напиши проще: «Ждем, когда наконец водку по железной дороге возить станут». Эпилог
На рассвете у пристани возятся грузчики. Один, почесывая спину, говорит: — Слышь, Петрович, а правда, что тут цари татарские были? — Были, — зевает Петрович. — Только водку, слышь, не пили. Глупые были. Река несет щепки, обрывки газет, объедки воблы. Где-то кричит чайка. Город живет.
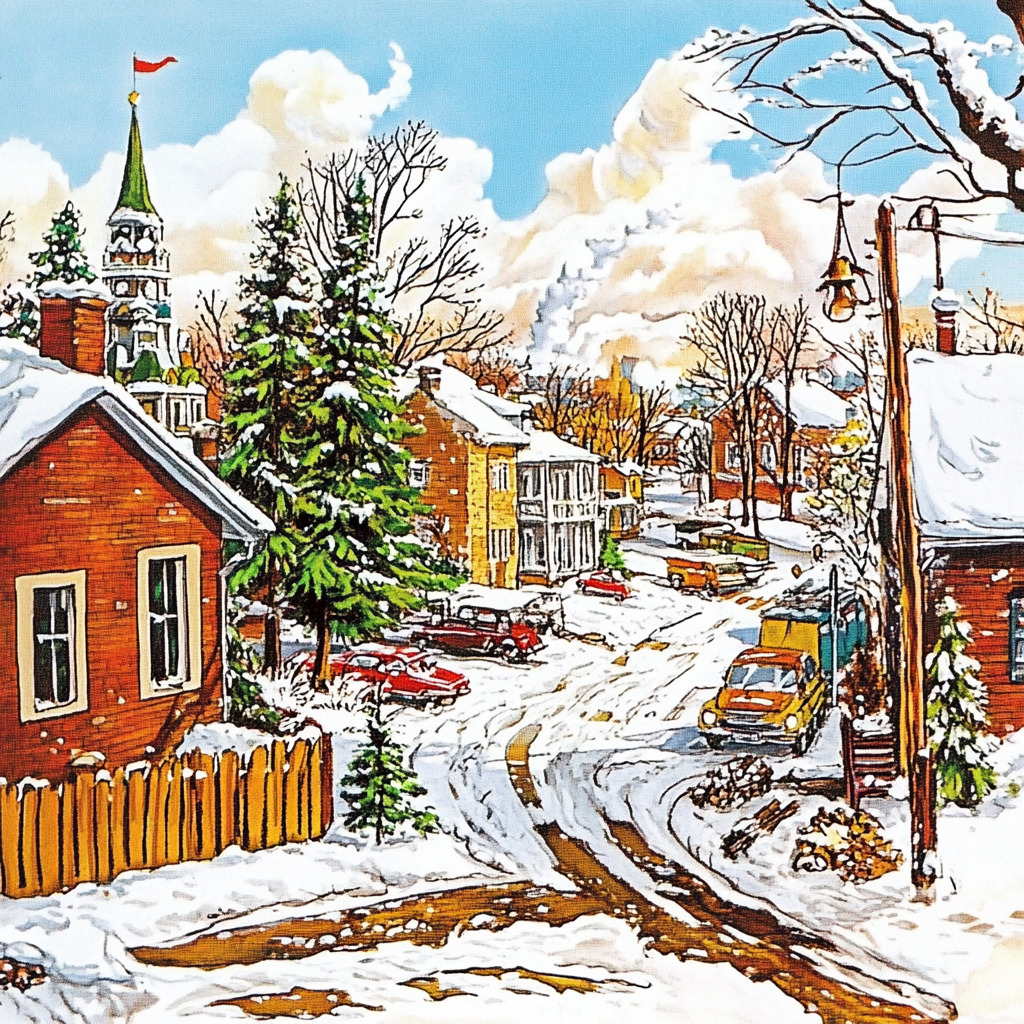
КАСИМОВ: ДРЕВНОСТЬ И ЧИПСЫ
(Современные легенды уездного города)
1. Вокзал, где время застряло
На станции «Касимов» — тишина, как в музее. Раз в день сюда приползает поезд из Шилово, выпуская трех пассажиров:
— Бабушку с сумкой-тележкой («За лекарствами езжу! В городе аптека одна — да и та гомеопатия!»); — Парня в камуфляже («А че, билет дешевый»); — Туриста с фотоаппаратом («Вы не знаете, где тут ханские бани?»).
Кассирша Зинаида Петровна, разминая затекшие ноги: — В 1980-м тут толпы были! На пляж ехали, на теплоходы… А теперь — на тебе, «Московская кругосветка». Круизник раз в неделю причалит — немцы фоткают минарет и бутерброды жуют.
2. Музеи: где самовары важнее ханов
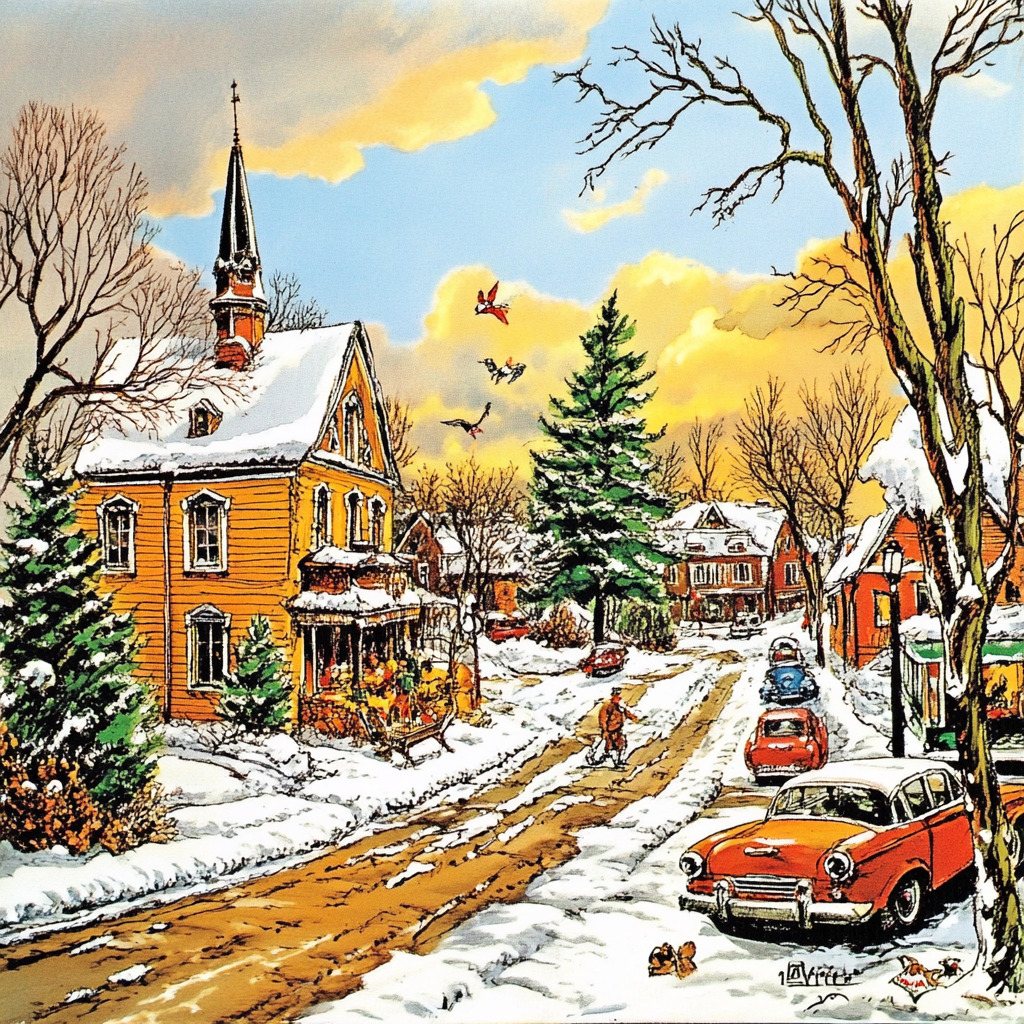
В «Русском самоваре» экскурсовод Лида тычет указкой в раритет: — Этот красавец 1778 года! В него Иван Грозный, может, чай наливал!
— Так он же в Казани был… — бормочет школьник.
— Молчи! У нас тут легенда!
В углу скучает «гигантский самовар на 4 ведра» — когда-то поил весь вокзал, а теперь в него кидают монетки «на счастье».
Рядом — Музей колоколов. Главный экспонат: — Колокольчик времен Грозного! — …оторванный от кошачьей шеи в 1992-м.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.