
Дочери Алине посвящаю.
Пролог
Красная Армия спешно отступала под натиском румын и немцев, так спешно, что не всегда успевала взрывать важные объекты в оставляемых городах — а нечего говорить и про менее важные. Все силы — на оборону Одессы, вокруг которой петля затягивалась всё туже и туже.
Ранним утром 6 августа 1941 года через оставленный Котовск с гиканьем пронеслась румынская кавалерийская бригада, преследуя отступающих к Одессе красноармейцев. За ними, не спеша, по-хозяйски, въехали немцы. И среди военной техники, под их надёжной защитой, двигался чёрный «мерседес», в котором находились двое офицеров: один — в эсэсовской форме оберштурмфюрера*, второй — в форме полковника румынской королевской армии. Равнодушно глядя из окна автомобиля на затаившийся город, эсэсовец сказал, обращаясь к своему спутнику:
— Beachten Sie, Herr Skokovski, rot abhauen so schnell, dass nichts Zeit zu explodieren musste.
Помолчав, добавил:
— Ich denke, dass Ihr Objektintakt.
— Hoffentlich, Herr Paschen, — на сносном немецком ответил полковник.
Полковник явно волновался, глядя по сторонам, в отличие от своего спутника. Заметив это, оберштурмфюрер усмехнулся.
— Aber ich habenichts zu befürchten. Alle meine… Themen, ich bin mir sicher, waren. Wird, wird die Möglichkeit… der Jagd sein.
Полковник покосился на своего упитанного спутника.
«Уж тебе наверняка нечего беспокоиться, — подумал он. — Твои головорезы из-под земли достанут жертву».
И тут же ему показалось странным: а ведь и ему придётся из-под земли доставать свою жертву… если она ещё там.
«Господи, — молился мысленно полковник, — яви свою божескую милость. Отринь от него свою карающую десницу. Оставь, оставь его мне! Молю тебя!»
— Wir mit Ihnen, Herr Skokovski, andere Mission, — словно угадав его мысли, вновь заговорил черноформенный спутник. — Mir — dort senden, und Sie — dort hin zurückzukehren. Aber wir werden das Gleiche tun — wiederherstellung der Ordnung. Jetzt sind wir die Herren, und es ist sofort notwendig, alle diese bolschewistischen cvore zeigen. Sie werden nur eine Sache gegeben werden: unseren Willen zu gehorchen.
— Völlig einverstanden mit Ihnen, — поддакнул полковник.
Машина остановилась у двухэтажного здания. Офицеры вышли и пожали друг другу руки.
— Ich wünsche Ihnen, Herr Skokovski, schlagen Sie Ihre Gegner, — с нажимом произнёс немец.
— Und Sie — erfolgreich und schnell Jagd, — также вежливо пожелал полковник.
— Oh, von uns niemand mehr… auf Wiedersehen, — попрощался эсэсовец.
Полковник ещё некоторое время постоял, глядя вслед Пашену. И он не сомневался, что его миссия будет выполнена… ещё бы! Пашен возглавлял отряд «Зондеркоманды СС 10-А», в задачу которого входило выявление и уничтожение евреев, коммунистов, цыган, инвалидов, но в первую очередь евреев. О-о, в этих делах его головорезы были мастаки — но! Пытать, расстреливать — дело нехитрое. И Скоковскому не было жаль этих… этих большевистских жертв. А вот его миссия… его миссия и проще, и сложнее. Впрочем…
Полковник, поняв, что слишком задумался, махнул рукой. И к нему тотчас подъехала легковушка, неотступно следовавшая за их машиной.
Город постепенно заполнялся войсками, как бы компенсируя отсутствие затаившихся жителей. Но то заполнение было зловещим — вместе с ним заползал невидимый страх, проникавший сквозь стены домов в сердце каждого жителя. И не было спасения от этого страха, и мучительно было осознавать своё бессилие.
Но не все поддались страху. В железнодорожном депо сгрудилась стайка рабочих вокруг невысокого коренастого человека.
— Слышь, Тимофеич, — негромко спрашивал коренастого чумазый работник, — ну и чё нам теперь делать? По домам?
— Как есть по домам, — согласился коренастый. — Кто небоязливый — оставайся со мной, остальные — по домам.
Никто не двинулся.
— Ладно… раз так, слушайте сюда. Да поближе давайте.
Рабочие ещё тесней сгрудились вокруг своего начальника. Иван Тимофеевич Скорубский, начальник ремонтных мастерских, ещё с беляками имел дело в Гражданскую, уж он-то знает, как быть в таких непростых обстоятельствах.
— Вот что, братцы, — негромко говорил он, — надо поначалу посмотреть, что да как… да осторожно, так, чтоб немчуре на глаза не попасться. А потом… потом посмотрим.
После чего рабочие тихо разошлись, каждый по своему маршруту.
И если у них маршрут был не особо определён, то у Скоковского — предельно точен.
Доехав до здания, где размещался штаб его кавбригады, полковник некоторое время потратил на устройство своего штаба, отдавая необходимые распоряжения. Пока, наконец, ближе к вечеру не освободился. Сев в свой автомобиль, в сопровождении машины с солдатами, он поехал на окраину города.
А вот и искомый монумент.
Скоковский с недоумением созерцал это странное бетонное сооружение: широкий, низкий фундамент с небольшой трибуной, и возвышающаяся над всем колонна с барельефами.
В свете угасающего дня Скоковский, подойдя ближе, разглядел барельефные композиции на тему Гражданской войны. И везде — он: лихой рубака, красавец-командир, силач и орденоносец.
Скоковский почувствовал, как волна ненависти буквально захлестнула его. Он махнул рукой, и солдаты, найдя железную дверь, ведущую в подземелье, начали разбивать её прикладами. Войдя в специально оборудованное подземное помещение, отделанное белым кафелем, он увидел в полумраке стеклянный саркофаг, накрытый красным бархатом. Рядом, на небольшой нише, его портрет в военной форме с многочисленными регалиями, венки. Здесь же на атласных подушечках все три ордена. Чуть в стороне, на специальном постаменте, — почётное оружие, шашка, на эфесе которой инкрустирован четвёртый орден. Слышалось лёгкое жужжание невидимых механизмов, поддерживающих температурно-влажностный режим в саркофаге.
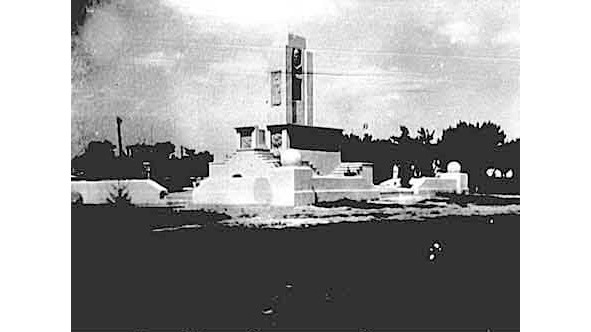
Скоковский поёжился: и это лёгкое жужжание, и таинственный полумрак, царивший в склепе, и жуткая тишина — всё это напоминало что-то потустороннее, так тесно связанное с покойным. Он подошёл к саркофагу и откинул тяжёлый бархат. Заметив на низком потолке плафон, прямо над изголовьем, щёлкнул тумблером. Мягкий свет залил весь саркофаг, и покойник предстал во весь свой, отнюдь не богатырский рост.
Что-то завораживающее было во всём этом, такое, что даже заставило застыть в молчаливом созерцании и солдат.
«Умело забальзамировали, — подумал Скоковский. — Как живой… ну вот и всё, я достиг цели».
Ему вдруг сделалось отчаянно грустно: то, чему он посвятил всю свою жизнь — свершилось. Но не было радости, не было восторга — ничего не было… была лишь какая-то пустота внутри. Но чем дольше он смотрел на тело, тем сильнее оно завораживало — дьявол и после смерти оставался дьяволом. Не в силах оторвать взгляд от покойника, он с трудом сделал знак солдатам, и те стали разбивать прикладами саркофаг. Сбросив тело на пол, солдаты поволокли его на улицу.
Вдруг Скоковскому стало трудно дышать, и он поспешно покинул этот жуткий склеп, захватив награды и оружие.
С облегчением вдохнув чистый воздух и с удовольствием ощутив широкое жизненное пространство, он подошел к брошенному на землю телу. Теперь покойник уже не производил такого жуткого впечатления, как там, в склепе — обыкновенный труп… но будто только уснувший.
«Не-ет, не-ет, — с ненавистью подумал Скоковский, — теперь тебе точно никогда, никогда не упокоиться. Ты не будешь больше… мумией, к которой стремятся любопытные взоры наивных людей. Ты будешь обыкновенной падалью!»
И он, резко выдернув из ножен его же клинок, наотмашь, по-кавалерийски, отрубил голову трупу.
— În masina lui, — приказал Скоковский.
Чуть поодаль послышались выстрелы.
«Пашен, как видно, тоже нашёл свои жертвы, — подумал он. — Что ж, нам обоим охота удалась».
Он кивнул стоящему рядом офицеру, и тот с группой солдат приступил к минированию объекта. Отъехав на безопасное расстояние, Скоковский с солдатами терпеливо ждал. Наконец, заложенные заряды рванули, и объект осел, распавшись на отдельные глыбы.
Усмехнувшись, Скоковский махнул рукой, и машины тронулись в обратный путь. Увидев через некоторое время свежевыкопанную траншею, заполненную трупами, он приказал остановиться.
— Aruncă-l… acolo, — указал он солдатам на траншею. — Locul său în rândul aceeași căzut.
Проследив исполнение, Скоковский снял фуражку, перекрестился по православному и сказал вполголоса по-русски:
— Ну вот, папа… ты отмщён. Больше он не существует… ничего от него не осталось, ничего. И никто и никогда больше не увидит и не вспомнит это исчадие ада.
Но Скоковский ошибался. За ними внимательно следила пара глаз, ещё начиная от мемориала. И когда машины отъехали, незаметная тень в наступившей тьме легко качнулась за углом дома и растворилась в ночи.
В железнодорожном депо Иван Тимофеевич с мрачным лицом выслушивал пришедших рабочих. Вести были неутешительными: облавы, аресты, расстрелы. Услышав о взрыве мемориала, он встрепенулся.
— А с телом, с телом-то что?
— Дык… выбросили. Туды, где расстреляли… наших. Сам видал, — сдавленно сказал один из рабочих.
Все молчали.
— Та-ак, — вздохнул Иван Тимофеевич. — Вона, значит, как они… чтоб, значит, и память нашу стереть. Та-ак… слушайте сюда. Надо всех расстрелянных по-людски похоронить, да комкора отыскать там… пока фашисты не сожгли. Всё понятно? Айда за струментами.
В мастерской нашлось всё: лопаты, ломы, носилки, мешки, фонари, тачки.
Уходили тихо, за полночь, понимая, что попадись военному патрулю — несдобровать всем.
Место расстрела не охранялось, но надо было спешить управиться до рассвета.
— Вот что, ребята, — тихо наставлял Иван Тимофеевич, — никаких фонарей, будем работать так… да хоть на ощупь. Но чтоб сделать, как наметили… да сперва отыскать комкора.
После чего расставил людей: кому извлекать из траншеи трупы, уже начинающие разлагаться, кому отвозить за город, кому копать братскую могилу.
Комкора отыскали быстро — его даже не присыпали, но… без головы.
— Тимофеич, — шёпотом возбуждённо и горячо позвал начальника один из рабочих, — Тимофеич. Подь сюды, глянь — комкор тово… не тово… как его… а где ж голова-то?
— Дык… искать надо, — тихо сказал другой рабочий. — Ему же этот… офицер ихний отрубил шашкой… сам видел.
— Изверги, — пробормотал Скорубский. — Ищем, братцы, ищем. Здеся должна быть.
Голову с трудом нашли на другой стороне траншеи. Запихнув останки в мешок, Иван Тимофеевич с одним из рабочих отнёс труп комкора в депо.
— Дык… куды ж его теперь? — спросил рабочий. — Нешто схоронить?
— Вот что, Кузьмич, — сразу ответил Иван Тимофеевич, — я уже продумал куда… нельзя его, нельзя… в землю. Надо спрятать до наших.
— Дык… как спрятать?
— Об том будем знать только ты и я, понял?
— Дык… понял, — ответил ничего не понявший рабочий.
— Раз понял — давай за мной.
Иван Тимофеевич заранее обдумал, что будет делать, заранее всё подготовил. Они поднесли мешок к подсобному помещению, занесли на чердак, где переложили труп в приготовленное глубокое корыто. Там, из припасённого бидона, залили спиртом, накрыли брезентом и закидали разным тряпьём.
Внимательно оглядев тайное место, Иван Тимофеевич остался доволен — нипочём не найти фашистам комкора. Закрыв чердак на ключ, они быстро покинули депо, спеша на помощь своим — надо торопиться, надо успеть.
А Скоковскому уже никуда не надо было торопиться. Сидя у себя в комнате, он задумчиво перебирал его ордена. Взяв один, он подошёл к зеркалу и приставил его к своему мундиру. На него смотрел из зеркала уже немолодой офицер, полковник румынских королевских вооружённых сил, с румынскими наградами, среди которых неестественно пламенел большевистский орден. С отвращением отбросив награду, он взял его шашку и медленно стал вытаскивать из ножен. Ему вдруг показалось, что клинок ещё хранит… нет, не кровь, а следы того удара. Брезгливо отложив клинок, полковник достал припасённую бутылку коньяка, налил в стакан немного и стал тщательно протирать лезвие, а затем и все ордена — чтобы и духа его не осталось, даже на трофеях.
Закончив, он аккуратно сложил трофеи в приготовленный ящик.
— Отправлю жене, — пробормотал Скоковский. — Пусть засунет в чулан… до моего приезда.
Затем он налил себе хорошую порцию коньяка и, подойдя к зеркалу, сам себе сказал:
— Я, Всеволод Скоковский, потомственный дворянин, в августе сорок первого года, шестого дня завершил дело всей моей жизни: мною казнён — обезглавлен — государственный преступник Григорий Котовский*, это исчадие ада, это проклятие всей моей семьи. За сим считаю дело закрытым.
Единым махом осушив cтакан, он сел за стол со скромной закуской. Молча пережёвывая пищу, он задумчиво смотрел в пространство, и мысли его постепенно возвращались к далёким временам.
Часть первая
Глава первая
Низкий потолок давил, его белизна раздражала Гришу. Вот уже несколько месяцев, после того злополучного падения с крыши, он прикован к постели. И его удел — этот ненавистный потолок, где даже муха доставляла радость мальцу, за которой он следил глазами до тех пор, пока она не улетала. А ещё он мог смотреть в окно, за которым открывался дивный вид: под необъятным синим-синим небом — море зелени. Яркая, сочная зелень повсюду: и на виноградниках с солнечными, налитыми животворящей влагой гроздьями, и на табачных плантациях, и на склонённых над прозрачной галечной речушкой Когыльник ивах с длинными-предлинными космами ветвей, и на дубравах, сплошным ковром покрывающими дальние кодры родной Бессарабии. Но и это не радовало Гришу — одна и та же картина, зовущая и манящая, и… полная неподвижность.
Когда его, едва дышавшего, принесли домой, отец, Иван Николаевич, буквально обезумел от горя. Ну почему, почему ему такое наказание, за что?! И пяти лет не прошло, как умерла от родовой горячки любимая жена Акулина Романовна. А после и его мать Мария, или, как её любовно называли внучки, «баба Марья», которая после смерти невестки взяла на себя все хлопоты по дому. И вот теперь ещё и Гриша…

— Вы, Иван Николаевич, вот что, — отвлёк его от мрачных мыслей доктор, — возьмите себя в руки. У вас, знаете ли, семья… и немалая.
Иван Николаевич посмотрел с надеждой на врача, которого прислал князь Манук-бей, крёстный отец Гриши, узнав о несчастье в семье Котовских.
— Ска-ажите, — с дрожью в голосе спросил он, — есть надежда?
— Надежда, голубчик, всегда есть. Однако не скрою — положение мальчика весьма серьёзное. Повреждён позвоночник, он полностью обездвижен, пропала речь… но, но всё может быть. Лечение тут не поможет, а вот вы, ваша семья, помочь можете.
— И как же это? — уныло спросил Иван Николаевич.
— Прежде всего заботой, повседневной. Да хорошо бы отвлечь его от мрачных мыслей. Надобно… ну вот хотя бы читать ему интересные, занимательные книги. У князя богатейшая библиотека, я поговорю с ним.
Иван Николаевич машинально кивал, но в мозгу билась одна мысль: лечение не поможет! О-о, зачем, зачем он приехал в эти Ганчешты, такое проклятое место?!
И перед его мысленным взором мгновенно пронеслись давние события: и то, как его отца, польского дворянина и полковника уволили из российской армии за помощь польским повстанцам; и то, как он разорился, оставив его и старшего брата Петра ни с чем; и то, как Иван Николаевич вынужден был перейти в мещанское сословие и уехать из родной Каменец-Подольской губернии в Бессарабию, где поступил на службу к князю Манук-бею Мирзояну инженером-механиком на винокуренный завод в Ганчештах.
— Да… — вновь отвлёк его от тяжёлых мыслей доктор, — а наблюдать его я буду, буду приходить… попробую ещё проконсультироваться в Кишинёве у доктора Закревского. За сим — до свидания.
И начались непростые дни. Отец — постоянно на работе, где за 50 рублей в месяц он ухитрялся содержать свою большую семью (пятеро детей!). А всё домашнее хозяйство — на старших: серьёзной Соне и ледащенькой Леночке, да сыне Николае. Их день заполнен бесконечными хлопотами: обед приготовить, посуду помыть, воду принести, убраться по дому и прочее. А главное — на них забота о младших: сестрёнке Марийке и Грише.
И Гриша ждал, когда кто-нибудь из сестёр, освободившись, подсаживалась к изголовью его кровати и… начиналось волшебство. Слушая выразительное чтение сестры, мальчик погружался в мир грёз и фантазий: вот Гулливер в стране лилипутов, а вот Робинзон Крузо со своим верным Пятницей на необитаемом острове, или храбрый лорд Гленарван, бороздящий на своём «Дункане» океаны в поисках капитана Гранта, или сказочный богатырь Грозован, отважно сражающийся с нечистью… а вот генералиссимус Суворов, преодолевающий со своей армией высоченные альпийские хребты. Но его, семилетнего малыша, особенно заинтересовало детство Суворова, то, как хилый и болезненный малыш закалял себя, стремясь стать сильным и выносливым. Но особенно он любил слушать про благородных разбойников или о Тарзане, про то, как тот ловко взбирался на скалы, прыгал с огромной высоты в воду, «летал» на лианах, боролся с тигром. Гриша мысленно следовал за своим героем, повторяя в уме его действия, невольно напрягая безжизненные мышцы.
— Опять про Тарзана? — притворно сердилась сестра Лена, когда братишка глазами указывал на книгу, которую хотел бы послушать. — Гриша, ну сколько можно? Другие же есть книги.
Но брат упорно указывал глазами — про Тарзана хочу! И покорная сестра, вздохнув, в сотый раз читала о подвигах Тарзана, в душе, однако, радуясь вниманию больного.
И выздоровление пришло, пришло неожиданно.
Как-то Лена (ей чаще всего приходилось занимать больного) стала читать брату мифы Древней Греции. Гриша впервые услышал, как силы ада, вырвавшись из-под земли, стали вести борьбу с олимпийскими богами за власть над всем сущим. Вот сторукие великаны-гекатонхейры вырывают целые скалы и швыряют на вершину Олимпа, вот ужасный змей Пифон, исторгая пламя, испепеляет вокруг всё живое, вот мощные гиганты яростно штурмуют высокий Олимп. И всюду смерть, огонь, разрушения. И, кажется, нет такой силы, чтобы унять, остановить весь этот ужас.
Видя, как испуганно смотрит брат, Лена поняла, что переборщила с такой книгой. И чтобы успокоить его даже принесла его любимое ореховое варенье. А он сразу заулыбался — какая хорошая у него сестрёнка.
Но ночью, под впечатлением услышанного, Грише приснился кошмарный сон: будто его преследуют гекатонхейры, стремясь схватить и утащить в ад. А он стремится убежать, но безжизненные ноги не двигаются, он никак не может двинуться с места. А великаны всё ближе и ближе — вот-вот схватят…
На его крик первой прибежала Лена с зажжённой лампой, да так и застыла в изумлении.
— Соня, Соня! — закричала она. — Иди скорее сюда!
Прибежавшая Соня, тяжело дышавшая от дурного предчувствия, также застыла в изумлении — брат шевелился! И им даже в голову не пришло, что голос, голос также появился!
Когда пришедшему поздно ночью отцу сказали об этом событии возбуждённые дочери, он сначала не поверил. Но уже утром сам убедился — сын слегка шевелил и руками, и ногами. Чудо, воистину чудо!
Именно так сказал доктор, осмотревший больного.
— А сынишка-то ваш, Иван Николаевич, волевой, — уважительно произнёс он. — Такой далеко пойдёт.
— Наверное, в деда, — улыбнулся Иван Николаевич. — Тот тоже отличался отменной волей и здоровьем.
— Вот-вот… ещё бы и речь вернулась.
И речь также вернулась через месяц.
Когда Лена читала в очередной раз про приключения Тарзана, она вдруг услышала:
— Х-хватит про Т-Тарзана, Ленка. Н-надоело.
Сестра аж книгу выронила от изумления и неожиданности.
С этих пор постепенно Гриша пошёл на поправку. И ему уже не было так мучительно больно смотреть в окно, он стал понимать, что снова увидит Ганчешты, снова искупается в чистом Когыльнике, и даже может быть снова станет таскать яблоки у дядьки Тудора. В открытое окно долетали запахи спелых яблок и виноградной лозы — скоро будет праздник молодого вина! А значит, он увидит, как лихо отплясывают старинный жок* жители села — ох как он попляшет вместе с ними!
Почти год был прикован к постели Гриша, прежде чем вышел в сопровождении сестры Сони из дома. И… сразу весь съёжился, раздавленный громадой пространства. Он испуганно застыл на месте, не в силах сделать шаг. Соня же это поняла по-своему, ласково и поощрительно подтолкнув его вперёд. И он сделал этот первый самостоятельный шаг, чтобы всегда шагать в дальнейшем по жизни смело и решительно, ничего и никого не боясь. Он себя поднял невероятной силой духа, невероятным упорством через миллионы имитационных мышечных упражнений, привычку к которым пронесёт, где бы он ни был, через всю свою недолгую жизнь. А от перенесённого стресса у него навсегда останется лишь лёгкое заикание.
Гриша, сделав первые неверные шаги по двору дома, гордо поглядел на старшую сестру, практически заменившую ему мать, и заметил на её глазах слёзы.
— С-соня, ты п-плачешь? З-зачем?
— Это я так, от радости, — отмахнулась сестра. — Ты иди, иди, Гриша.
По существу это было второе его рождение.
А ещё любил он играть в войну и командовать в таких играх. И никто лучше его не умел прибегать к разным хитростям, устраивать засады, внезапно нападать.
— В-вот как надо в-воевать, — поучал он приятелей. — К-как молдаване в-воевали в древности.
— А как воевали? — интересовалась детвора.
— А в-вот, слушайте: с-сражались они с поляками у лесов Лэпушны…
— Какого такого… Лэпушны, где это? — перебил кто-то из пацанов.
— А это т-там, — махнул куда-то в сторону Гриша. — В-вот… и вдруг во время с-сражения на поляков н-начинают падать деревья. А? Л-ловко придумано?
— А… как это?
— А т-так — деревья были з-заранее подрублены. В-военная хитрость.
— И откуда ты всё знаешь?
— Из к-книжек… читать надо, тюхи. Айда з-за мной.
И чтобы наглядно показать как это было, Гриша с пацанами подрубил старую грушу в саду соседа, дядьки Тудора Ромашкану, которая чуть было не придавила дядьку, когда он собрался нарвать плодов. Грише тогда здорово досталось от отца, который совсем не поощрял таких наглядных примеров.
Но это не останавливало фантазий Гриши. Он вооружал своё «войско» топорами, вилами, самодельными луками и мечами. И вот уже Гриша вовсе и не Гриша, а молдавский господарь Штефан-Водэ во главе своей ватаги-войска, а противная сторона — «полчища» польского короля Яна I. И «великая битва» заканчивалась неизбежно победой молдаван, потому что начитанный Гриша хорошо знал, что «возвратился король с великим срамом восвояси». Да и как было «молдаванам» не победить, если их предводитель Штефан-Гриша был сильнее всех: на нём повисало до пяти ребят — всех стряхивал, как горох, а нечего говорить и про всё его «войско», воодушевлённое таким предводителем. Ведь после болезни гимнастика стала для Гриши привычной, доставляя ему только радость существования.
А ещё он полюбил коней. Как заворожённый наблюдал маленький Гриша за княжеским табуном, прогоняемым на выпас табунщиками. Ах, что за кони! И вот уже он представлял себя лихим рубакой на скакуне, преследующим врага. И он нагонял врага, и рубил его направо и налево. И отбивал обоз, и освобождал молдавских пленников, угнанных ненавистными янычарами. Победа, победа! Надолго запомнят проклятые янычары тяжёлый богатырский меч. И…
— Ах, Гриша! Ну что ты натворил?!
Голос Сони вернул его к действительности.
Весь двор был усыпан изрубленной крапивой. Ещё недавно необузданная, жгучая, готовая заполонить весь двор, а теперь жалкая, порубленная, висящая лохмотьями… Гриша совершенно искренне не понимал, почему его так ругает сестра.
Вздохнув, отважный воин слезает со швабры, скромно прячет за спину деревянный, весь в зелёной крови «врага» меч и покорно выслушивает сестру.
— Ну что, что ты наделал?! — ахала Соня. — Мало того что весь двор усыпал крапивой, так ещё сам весь ожёгся… вон, гляди, гляди — и руки, и ноги. А штаны, господи?! Все в зелёном… ну как, как теперь их отстирать?! А ну, марш домой! Ты будешь наказан! И варенье ореховое не получишь — вот!
Вздохнув, Гриша поплёлся в дом — и это награда за его победу?!
— Какую ещё лошадку? — не понял отец, когда сын начал что-то вечером бубнить про табун, про лошадку, про янычар. Но из его «бубнёжа» он всё же понял — сын просит коня, как у князя в табуне.
— Э-э, родной, — протянул отец. — Вот когда станешь князем, тогда и будет у тебя лошадь… даже не одна.
— А к-когда я им с-стану? — не унимался Гриша.
— Когда, когда, — отмахнулся отец. — Когда рак на горе свиснет.
— А к-когда он свиснет?
— Ты, Гриша, вот что. Ты отстань, не доводи меня своими дурацкими просьбами. Коня, видишь ли, ему подавай! А луну не хочешь?
Луну Гриша совсем не хотел, а конём… конём буквально заболел, мечтая о гнедом или кауром, или всё равно о каком скакуне. И периодически жалобно нудил, выпрашивая коня, и никакие наказания не помогали.
Но однажды, в воскресный день, сёстры, по велению отца, помыли Гришу, причесали, нарядили в новую рубашку.
— В церковь, да? — насупился Гриша. — Всё равно н-не пойду — убегу.
— Нет, Гриша, не в церковь, — загадочно улыбнулся отец.
— А чего т-тогда меня Сонька к-крестит?
— Ну, это она так, по привычке, — успокоил отец.
Гриша насторожился: чего это отец сегодня такой добрый и…и вообще, от него не машинным маслом пахнет, как всегда, а каким-то «деколоном». Вон, и костюм даже надел.
Отец взял сына за руку и вышел с ним на улицу.
Ганчешты — село рэзешей, мелкоземельных крестьян. У каждого дома — виноградник, а то и небольшой сад с яблонями, грушами, абрикосами. Зелёные листья, сине-синее небо, белые-белые домики — сколько ярких красок, радующих глаз!
Они не спеша пошли по широкой улице прямо к холму за селом, на вершине которого, утопая в зелени дубравы, сверкал сахарной белизной дворец Манук-бея.
От главного входа у подножья холма к дворцу сквозь парк ведёт тенистая аллея. Отец с сыном идут по дорожке, покрытой глазчатой тенью деревьев, и Гриша видит на взгорке все три этажа дивного здания с широкими проёмами окон и лоджий. И дворец, по мере их продвижения, как бы наплывает, нависает, поражая своими размерами.
«Неужели здесь, в таком огромном доме, живёт один князь?» — думал Гриша, поражённый невиданным величием.
Но вблизи он был ещё краше: на террасе, где они оказались, в толще стен были выдолблены ниши, украшенные изумительными по красоте фресками со статуями нимф. И с террасы открывался великолепный вид на Ганчешты и на Охотничий замок со сторожевыми башенками.
В огромной зале, куда их провёл дворецкий, множество картин и фресок.
— Это — Айвазовский, — шёпотом сказал Грише отец, указывая на картины и фрески.
— К-какой Айвазовский? — не понял Гриша.
— Великий художник-маринист… ты смотри, смотри — красота-то какая.
Поражённый таким великолепием, Гриша затаился, как сверчок, под такой громадой, инстинктивно прижался к отцу, чувствуя себя маленьким-маленьким. Ему казалось, что в таком громадном доме и проживать должен великан.
Наконец появился сам князь — Григорий Иванович Манук-бей Мирзоян, в обычном костюме, обычный мужчина, уже в возрасте и совсем-совсем не великан. Разочарованный Гриша впервые видел своего крёстного, о котором так много и так уважительно рассказывал отец. Это в честь него, своего благодетеля, и назвал он сына.
Тепло улыбнувшись отцу, он с иронией посмотрел на Гришу.
— Ну, здравствуй, крестник… полный мой тёзка.
Гриша от страха и волнения (да ещё заика!) не мог вымолвить ни слова, только таращил испуганно глаза. Но князь продолжил как ни в чём ни бывало:
— Тебе, Гриша, я слышал, десять лет исполнилось — так ведь?
Гриша робко кивнул.
— И в школу пойдёшь?
Гриша снова кивнул.
— А что бы ты хотел в подарок от своего крёстного?
— К-коняшку, — неожиданно выпалил Гриша и сам испугался, ещё теснее прижавшись к отцу.
Князь рассмеялся.
— Ну пошли… крестник, за подарком.
Он вышел на террасу, и отец с сыном последовали за ним.
Внизу, во дворе, слуги держали под уздцы жеребёнка.
— Вот мой подарок, забирай его — он твой.
Не смея поверить в своё счастье, Гриша восторженно глядел на жеребёнка.
— Поблагодари князя, — тихо сказал, наклонившись к сыну, отец.
Но князь снова пришёл на выручку.
— А как ты его назовёшь? — спросил он.
— Г-гайдук, — выпалил, не раздумывая, Гриша.
— Начитался книжек исторических, ваше сиятельство, — как бы извиняясь за сына, сказал отец, — вот и…
— Да пусть его, — перебил князь. — Гайдук так Гайдук… пусть это будет последний гайдук*. Ну, иди к коню, Гриша, познакомься.
Гриша, будто ждал разрешения, горохом ссыпался вниз, словно боясь, что его жеребёнок вдруг исчезнет, или князь передумает.
А князь, с грустью глядя на Гришу, думал о своём: он был бездетен и знал, что на нём славный род Манук-беев закончится. Узнав, что его крестнику исполняется десять лет, князь захотел прежде всего отблагодарить своего лучшего работника за безупречную службу, сделать ему приятное. И слышать не захотел ни о каких отказах — что для него какой-то жеребёнок! Мало того, ещё перед их уходом дал Грише рубль «на пряники».
И уходя от князя, ведя в поводе своего жеребёнка, Гриша думал, что богаче его на целом свете нет никого… кроме, разве что, князя.
Шли годы. Жеребёнок вырос, стал большим, красивым конём, на котором с гиканьем скакал Гриша, показывая чудеса джигитовки.
— Папа, — ахала Соня, уже взрослая красивая девушка, — да ведь он убьётся! Скажи ему, чтоб не шибко носился.
— Ничего, Соня, — улыбался отец, — на то он и мужик… да и цепкий он парень. Такого свалить будет трудно. Гляди, гляди — они с конём будто одно целое.
Соня с сомнением посмотрела на отца, но ничего не сказала. Её уже радовало одно появление отца дома, такое редкое.
Иван Николаевич, став главным механиком на винокуренном заводе, теперь ещё реже появлялся в доме — слишком много хлопот на работе. А того более — ещё всегда стремился сделать всё сам, не доверяя работникам. Его очень ценил хозяин, Манук-бей, да и управляющий винокуренным заводом Горский. После смерти любимой жены Иван Николаевич так и остался вдовцом, посвятив себя исключительно работе, словно в ней пытался убить своё горе.
Завод был выстроен на плывунах, без свай, на больших серых камнях вместо фундамента. Здесь спирт гнали из кукурузы, и тяжёлый запах далеко разносился от мрачных корпусов. И через всё село нескончаемым потоком тянулись, скрепя колёсами, каруци, доверху наполненные кукурузой — богатый урожай нынче! И заводская труба, почерневшая от копоти, круглосуточно низвергала, «пачкая» изумительно чистое небо, чёрный дым.
Гриша, с детства не знавший родительской ласки, часто пробирался на завод, где, слушая монотонный гул машин, наблюдал за работой отца и старшего брата Николая, которого, после окончания школы, пришлось взять на завод. С любопытством заглядывал в давильни, огромные железные чаны и необъятные кадки. Но главная цель этих посещений — отец, которого он безумно любил и обожал. И когда Гриша, держась за отцовскую руку, проходил по заводу, он с гордостью видел, каким уважением пользуется его отец. И на душе Гриши делалось сладко-сладко.
Другое дело в школе. Там с ним не было никакого сладу. Там находила выход его необузданная энергия. Похваляясь силой, он сгибал в локте руку, предлагая желающим разогнуть её — никто не мог. Или одновременно держал на себе до пяти товарищей, или устраивал на переменах кучу-малу, в которой доставалось от него всем. А то вдруг устраивал ещё соревнования по метанию камней — кто дальше, которое обычно заканчивалось побитыми стёклами в школе или ближних домах. Во всей школе не было никого сильней, потому он и получил почётное прозвище — «Берёза», которое присуждалось только смелым, драчливым деревенским лидерам.
Отца не раз вызывали в школу, требуя большей строгости по отношению к сыну, да что с того. Отец обычно журил, лишал прогулок на коне. Гриша всё смиренно сносил и… снова за своё, огорчая отца и любимую сестру Соню.
Его детство закончилось со смертью отца, молчаливого труженика, которому нет цены, который всегда старался сделать работу на десять рублей, где платили рубль. Уж если он за что отвечает — весь исхлопочется, пока всё не сделает без сучка и задоринки.
И началось-то всё с обычной поломки парового котла. Рабочие, как обычно, выпустили из него горячую воду и оставили остывать. Но остывать — долго, а того более — большой простой, чего никак не мог допустить главный механик. Потому и полез, не смотря на уговоры, в ещё не совсем остывший котёл. Устранив неисправность, выбрался из котла потным и разгорячённым, и… сразу на улицу, на сквозной ветер — охладиться. К вечеру ему стало совсем плохо, еле добрёл до дома и сразу слёг, чтобы уже больше никогда не встать.
И если с котлом всё было нормально, то Ивану Николаевичу постепенно становилось всё хуже и хуже. Не помог даже присланный хозяином доктор. Осмотрев больного, он лишь покачал головой. И, отведя в сторону Соню, тихо сказал страшную фразу:
— Похоже, простуда прогрессирует. Боюсь, как бы не перешла в чахотку.
Соня побледнела.
— Доктор, — еле прошептала она, — и…и что… уже ничего нельзя сделать?
Доктор покачал головой.
— Сильнейшая простуда… эх, ему бы сразу тогда в постель. Да что теперь об этом.
Манук-бей не бросил своего лучшего работника, аккуратно выплачивая ему жалованье, которое, впрочем, почти всё уходило на лекарства. Жалованье приносил Котовским управляющий Горский.
И снова, помимо обычных хлопот по дому, на плечи Сони и Лены легла ещё забота о больном отце. И без того тоненькая Леночка превратилась буквально в тростиночку. Но, странное дело, Соня под дополнительным бременем забот настолько похорошела, что на неё стал заглядываться Горский, зачастивший к ним по поводу и без повода.
А Гриша присмирел, став чуть не пай-мальчиком в школе, но был задумчив и до крайности рассеян. Учителя, понимая его состояние и зная его непредсказуемый нрав, старались лишний раз не тревожить беспокойного ученика.
А Иван Николаевич тихо угасал. Как и предрекал доктор, его простуда перешла в чахотку, от которой не было спасения. Промаявшись так с год, он, в один из дней, не приходя в сознание, тихо скончался, оставив детей сиротами и без средств к существованию.
Положение было отчаянным, жалованье Николая — мизерное, Софья не знала что делать. Но тут Горский, смущаясь и краснея, сделал ей предложение. Но Софья наотрез отказалась.
— Пока не устрою младших, уж извините, Пётр Петрович, ни о каком замужестве и речи быть не может.
— Понимаю, понимаю вас, любезная Софья Ивановна, потому и не настаиваю, — сразу согласился Горский.
Но он доложил об отчаянном положении в семье Котовских хозяину, и тот сразу же пригласил к себе Софью.
— Вот что, любезная Софья Ивановна, — сразу, без обиняков начал князь, глядя на робкую Софью. — Я всегда ценил вашего покойного отца, а потому не могу оставить его семью без помощи. Посему предлагаю: Григория направить в Кишинёв, в реальное училище, а также младшую Машу по моей протекции. Все расходы на обучение беру на себя, о том не беспокойтесь.
— Ваше сиятельство, — смущаясь и краснея сказала Софья, — даже и не знаю, как мне вас благодарить…
— А вот этого не надо, — перебил её князь. — Лучшей памятью о вашем замечательном отце стала бы для меня эта небольшая услуга. Да и вам легче станет…
И неожиданно, хитро прищурившись, спросил:
— А на свадьбу пригласите?
Софья зарделась и ещё больше засмущалась от такой неслыханной щедрости и чести.
Пока Софья занималась житейскими хлопотами, Гриша пребывал в подавленном состоянии: как это, был отец и вдруг его уже нет… и никогда не будет?! А как же он с братом, сёстры?!
Смерть отца буквально сразила подростка, он вдруг сразу осознал своё одиночество в этом мире, страх существования. А главное, к нему вновь вернулись забытые страхи в виде ночных кошмаров со страшными чудищами, стремящимися утащить его в ад.
И известие о том, что он будет учиться в кишинёвском реальном училище по протекции князя, Гриша встретил безразлично.
Глава вторая
Кишинёв конца XIX века — обычный провинциальный город, где было всего-то четыре трёхэтажных каменных здания, остальные постройки — простенькие каменные и деревянные дома. Но город — с мощёными улицами, широкими тротуарами, с многочисленными магазинами, лавками, уличными фонарями, изумительно красивым городским сквером… были даже свои цирк, театр и синематограф! А вообще же о нём говорили, что «три-четыре улицы его напоминают Европу, весь же остальной город — Азию».
Ганчешты — всего в 40 километрах от города… но! Гриша попал будто в другой мир, где по мощёным улицам не проносятся с гиканьем на конях, а степенно двигаются на извозчике или в карете с чужеземным названием «омнибус», которую тянут лошади.
А публика! Дамы в длинных платьях с зонтиками, мужчины в коротких пиджаках с тростями степенно прогуливаются в городском сквере под музыку военного духового оркестра — вот какая, оказывается, есть жизнь: беззаботная, праздничная!
И городское училище — не жалкая халупа, а добротное каменное здание с широкими светлыми окнами, просторными классами, коридорами.
Да и сам Гриша под стать городскому жителю: фуражка с жёлтым околышем, кокардой, гимназическая шинель с блестящими пуговицами — чего же ещё нужно, чтобы стать вполне городским?!
Пока Гриша испытывал некое головокружение от увиденного, Софью, которая и привезла брата, занимали совсем прозаические мысли: как-то брат, с его буйным характером, приживётся в городе? Учёба, форма, питание, проживание — всё оплачено князем… но! Гриша-то с норовом! Одна надежда на педагогов — быть может, направят его неуёмную энергию в правильном направлении.

Гриша хорошо сдал вступительные экзамены и его зачислили, что искренне обрадовало сестру — парень-то смышлёный! Но всё ж перед отъездом она посчитала своим долгом ещё раз поговорить с братом.
Сестрины наставления Гриша слушал смиренно и даже кивал головой, думая о своём. Софья, заметив «отсутствие всякого присутствия», вздохнула и перекрестила брата.
— Ну, с богом.
С тем и отбыла домой, где её ожидали постоянные хлопоты по хозяйству, в душе надеясь, что брат будет устроен на ближайшие четыре года.
Но у четырнадцатилетнего Гриши было уже своё чёткое понимание жизни. Присмотревшись поначалу, пообвыкнув в классе, он выделил парня поздоровее и на перемене подошёл к нему.
— Т-тебя как звать?
— А тебя как?
— Я п-первый спросил.
— А я — второй.
Гриша окинул взглядом парня: и выше, и шире в плечах.
— Я — Б-берёза, — сказал Гриша.
— Ха, сказанул, — рассмеялся парень. — Что за имя такое — Берёза?
— А с-сейчас узнаешь. Хочешь — в-вздую? — поинтересовался Гриша.
— А х-хочешь — т-тебя вздую? — передразнил его парень.
— Д-дразнишься, да? Ну вздуй, в-вздуй, — поощрил Гриша.
— И вздую.
Слово за слово, и ребята, сцепившись «крепче двух друзей», уже катались по коридору, рыча и стараясь подмять под себя противника. Дерущихся ребят обступили ученики, криками подбадривая то одного, то другого. Но вскоре Гриша оседлал парня и принялся молотить кулаками куда попало до тех пор, пока кто-то не оттащил его за ухо.
Драчунов отвели к директору и, после выяснения обстоятельств драки, обоих наказали.
Побитым парнем оказался Пётр Чеманский. И после такой победы Гриша стал верховодить в классе, стал «Берёзой» и здесь. Все его стали бояться… кроме Чеманского — парень тоже оказался с характером. Ни в чём не хотел уступать, на рожон не лез, но и помыкать собой тоже не давал.
Поначалу Гриша честно пытался «отработать княжеский хлеб», но уж больно пресным он показался. Какая учёба, когда за окном на улицах города кипела совсем другая жизнь, которая манила к себе из душного и скучного класса!
И Гриша стал всё чаще и чаще прогуливать, предпочитая бесцельно слоняться по городу — по магазинам, лавкам, скверам или, если были деньги, в цирк или синематограф с его волшебным зрелищем. А порой доходил и до окраины, где жили, в основном, бедные еврейские семьи рядом с полностью «обездвиженной» речушкой Бык, больше похожей на грязную, вонючую лужу. Зато «упражнялся» здесь в идише, беседуя «за жизнь», чем вызывал уважение осторожных и подозрительных евреев.
А в училище ему уже мало показалось своего класса, он решил стать «Берёзой» и в параллельных классах при помощи кулаков. И классный журнал пестрил записями, где в основном преобладала одна фамилия — Котовский.
Наконец, по истечении трёх месяцев, Софья получила письмо, из которого следовало, что ученик Котовский Григорий «увольняется из реального училища за плохое поведение».
Срочно собравшись, она поехала в Кишинёв.
Появившись в канцелярии училища, она робко спросила шуршавших бумагами служащих:
— Мне бы… мне бы к директору.
— Да вы собственно кто будете? — поинтересовался худющий, похожий на скрепку, канцелярист. — По какому вопросу?
— Котовская… Софья Ивановна. Я…я насчёт брата.
— Ах так… извольте следовать за мной.
Смущаясь, вошла она в просторный директорский кабинет.
Директор — сама любезность, но холодная любезность! — учтиво пригласил сесть «госпожу Котовскую».
— Господин директор, — сразу начала Софья, смотря на его ослепительно белые манжеты, — я по поводу… вашего письма об отчислении моего брата. И мне… мне бы хотелось знать причину…
— Милостивая государыня, Софья Ивановна, — перебил её директор, — я понимаю ваше расстройство… однако не угодно ли выслушать.
Он раскрыл лежащий на столе журнал и стал медленно читать, водя пальцем из-под манжеты по листам и сквозь золочёное пенсне изредка поглядывая на Софью. По директору выходило, что Гриша — злостный прогульщик, драчун, дурно влияющий на учеников и портящий репутацию «вверенного мне училища».
Закончив чтение, директор развёл руками с манжетами.
— Увы, уважаемая Софья Ивановна, но такого ученика мы держать в стенах училища не можем. Я безмерно уважаю его сиятельство… но его протеже не оправдал надежд.
И он пристально посмотрел на покрасневшую Софью — попал в самую точку! Что она скажет князю?!
— Господин директор, — попыталась смягчить его доводы Софья, — поймите… Гриша круглый сирота. Оттого и… ведёт себя не совсем так. Может быть… может быть можно отменить ваше решение. А я…я поговорю с Гришей, он исправится, уверяю вас.
— Милостивая государыня, — снова перешёл на официальный тон директор, — смею вас заверить — я тут ни при чём. Это решение педагогического совета училища. И вынесено оно строго в соответствии с нормами поведения, прописанными в нашем училище.
«Не человек, а… манжет какой-то. Его ни чем не пробьёшь», — уныло думала Софья.
Покинув кабинет, пропитанный официозом и скудостью общения, Софья забрала Гришу и повезла его домой, поминутно браня. А тому — всё нипочём! Это-то как раз и очень тревожило Софью, которая решилась на визит к князю с очередной просьбой.
Князь внимательно выслушал её в своём кабинете, потом встал, подошёл к окну и стал смотреть на прекрасные дали. Софья мышкой сидела в кресле, со страхом ожидая решения.
— Ну хорошо, — неожиданно сказал князь, — хотя… ничего хорошего тут нет. Впрочем… раз он такой смышлёный, можно его послать на учёбу в кокорозенское училище, на агронома. Как вы на это, Софья Ивановна?
— Да… с превеликим, ваше сиятельство!
— Хорошо. Я отпишу директору, Иосифу Григорьевичу, он мой давний знакомый. Думаю, его примут без экзаменов, с учётом того, что он уже их держал в Кишинёве. Разумеется — на полный пансион.
— Уж и не знаю, ваше…
— Довольно, Софья Ивановна, довольно, — прервал её князь. — Вы же знаете, что я не люблю… э-э… мн… официоза в свой адрес. Да… расположено училище в глуши, там не будет у него возможности отлынивать. Готовьте Гришу в дорогу.
Софья было собралась уходить, но уже в дверях её остановил голос князя:
— Да… Софья Ивановна. Передайте Грише от моего имени, что если он будет хорошо учиться, то по окончании учёбы я его направлю в Германию на высшие сельскохозяйственные курсы. Мне, знаете ли, нужны отменные специалисты… такие, каким был ваш отец. Так что… пусть изучает немецкий язык.
Это известие обрадовало Софью — а нечего говорить про Гришу! Софья получила от князя, через Горского, самоучитель немецкого языка, и Гриша стылым осенним утром выехал на подводе в село Кокорозены Чеколтенской волости Оргеевского уезда, где и размещалась сельскохозяйственная школа. Эта школа была открыта бессарабским земством года три назад на арендованной у монастыря земле. Там готовили младших агрономов, специалистов по виноградарству и табаководству для частных хозяйств. Директор училища Иосиф Григорьевич Киркоров продумал систему учёбы так, чтобы выпускник мог бы одинаково хорошо вырастить саженцы плодовых деревьев, заложить виноградник, готовить вино, сыр, подковать лошадь, наладить сноповязку… словом, всё то, что необходимо в частном хозяйстве.
Земство и содержало школу, попасть в которую было не так-то просто — прошений поступало намного больше, чем было вакантных мест. Сюда ехали не только из Бессарабии, но даже из Украины стремились устроить своих чад малосостоятельные родители. Потому как учение в Кокорозенах — на полном пансионе. И ученики делились на казённо-коштных (от земства) и свое-коштных (от частных лиц), к последним относился и Гриша.
Школа — в самой глубине Бессарабии, вдали от железной дороги. И в распутицу было нелегко до неё добраться, степные просёлочные дороги превращались в непролазное месиво густого липкого чернозёма. Когда колёса напрочь застревали, Грише приходилось толкать изо всех сил телегу, помогая уставшей кляче.
Молчаливый возница, старый дядька Антон, обычно дремал долгой дорогой или под нос напевал негромко какие-то унылые, как степь, песни. Иногда ему подтягивал и Гриша, неплохо певавший в церковном хоре.
Вокруг — неуют малообжитых степных пространств, да нависшее низкое мочливое небо, наводившее тоску и воспоминания по той, прежней, бесшабашной жизни. И Гриша вдруг понял, что именно здесь заканчивается его детство, и наступает то новое, что зовётся взрослой жизнью. Какой-то она будет, что ждёт его там, в училище?
А в училище ожидали новичков-претендентов, и приезд Гриши Котовского был всего лишь одним из многих.
И вскоре директор училища читал рекомендательное письмо от князя, привезённое Гришей: «Милостивый государь, Иосиф Григорьевич! Направляю к Вам для прохождения учёбы в вверенном Вам училище Григория Котовского, сироту, мещанского сословия…» К письму прилагалась выписка из кишинёвского училища с отметками вступительных экзаменов. Но особенно понравилось директору, что этот самый Котовский будет на свое-коште.
Пока директор читал письмо, Гриша осторожно рассматривал его, невольно сравнивая с тем, кишинёвским директором. И если городской был холёным, с барскими замашками, то этот, кокорозенский, — обычный, с умным, не лишённым приятствия лицом.
— Ну-с, — сказал директор, закончив чтение, — юноша, ответьте мне на один вопрос, потому как его сиятельство не пишет: почему у вас не сложилось в реальном училище?
— Я, г-господин директор, — заволновался сразу Гриша, — из села. И м-мне лучше к земле. А тут г-город…
— Понимаю, понимаю, — закивал директор. — Городские соблазны, не так ли? Смею заверить, что у нас весьма жёсткая система обучения: помимо общих теоретических предметов обязательные практические занятия. И поверьте мне, личного времени у вас совсем не будет, да и соблазнов никаких нет. Вы готовы к такому?
Гриша кивнул.
— В таком случае — вы приняты. Наш школьный надзиратель, Николай Потапович Комаровский, займётся вашим устройством.
Комаровский, толстяк с унылым лицом, сразу спросил:
— Как звать?
— Гриша.
— Это ты раньше был Гришей, а теперь — Григорий Котовский. Уразумел?
— Да.
— Повтори.
— Я — Г-Григорий Котовский.
— Ну, вот то-то.
Школа — в трёхэтажном здании, где размещалось всё: и педагоги, и классы, и общие спальни. Также ей принадлежали богатые угодья: пашни, сады.
Когда в декабре закончились приёмные экзамены, начались учебные будни. Ученики в классах проходили, помимо общих, специальные предметы, закон божий. А на зимней практике кололи, пилили во дворе дрова, чистили скотный двор — это младшие классы. Старшие же занимались очисткой семян, заготовкой веников, резали кукурузные стебли и свёклу на корм скоту, ремонтировали инвентарь. Подъём — в шесть утра.
Но весной — ещё жёстче. Подъём с восходом солнца, и до самого заката — учёба и работа. У школы — пятьсот десятин отличной земли. И каждому ученику отводился небольшой участок, где он был обязан в течение года проводить все полевые работы: вспашку, посев, уборку, молотьбу и очистку семян. Потом результаты работы оценивались педагогом. Помимо того — работа на пасеке, на табачной плантации, в питомнике, а того более — дежурство в течение месяца по выбранной отрасли хозяйства, где ученики обязаны были вести записи, а в конце месяца составляли полный отчёт о своей деятельности (у Гриши особенно хорошо получалось на молочной ферме).
А ещё и работа на мельнице кочегаром, механиком, в кузьне у наковальни, да обучение способам прививки виноградной лозы, выведение и кормление шелковичных червей — да много чего ещё!
К концу дня ученики с ног валились от усталости, а харчи были скудными: мамалыга, клёцки с брынзой да галушки с молоком. Лишь изредка, когда приезжал кто-нибудь из попечителей, в столовой появлялось мясо, масло, творог.
Но Грише такой распорядок нравился и учился он с увлечением, легко постигая азы агрономии, смирив свой буйный характер… почти смирив.
Между казённо- и своекоштными порой случались стычки, где Гриша играл не последнюю роль. Он и в училище не забывал гимнастику, а то и часто «баловался» молотом в кузне, поддерживая отменную физическую форму, позволявшую ему оставаться «Берёзой». Его побаивались даже старшеклассники.
Но порой его «прорывало» основательно.
После отбоя запрещалось разговаривать, ходить по спальне, отлучаться — только по надобности. Но начитанного Гришу всегда просили товарищи рассказать на ночь что-либо интересное, занимательное. И он рассказывал вполголоса, пока утомлённые товарищи не засыпали. Но однажды он решил подшутить над ними — для разнообразия скудной и обыденной школьной жизни.
После очередного рассказа о волках-оборотнях, дождавшись, пока все уснут, он открыл все двери, осторожно пробрался в тёмный сад и там стал по-волчьи умело выть (а волки в тех полудиких местах были нередки). Проснувшиеся ученики от страха тряслись под одеялами, им казалось, что волки подошли совсем близко к школе. Послали за надзирателем, и пришедший Комаровский организовал из наиболее смелых старшеклассников группу для поимки «волков», вооружив их палками, вилами, топорами.
Боязливо пройдя на вой к ближним сараям, они с удивлением и досадой увидали «волка» — Гришу. А тот, увидев крадущуюся группу «храбрецов», не удержался от смеха.
— Так ты ещё смеешь насмехаться?! — закричал донельзя разгневанный надзиратель. — Немедленно в постель! О-о, твой смех тебе дорого обойдётся!
Но в училище не принято было сажать провинившихся учеников на хлеб и воду. И из наказаний здесь умели извлекать пользу — только работой. И Комаровский придумал: в парке решено было посадить акации, целую аллею. Оно бы всё ничего, да только аллея уж больно большая, да и времени у учащихся маловато. Вот и наказание: выкопать ямы под саженцы белой акации.
Но Гриша справился: и выкопал, и посадил саженцы. И до сих пор одну из аллей в пришкольном парке называют «аллеей Котовского».
Был среди соучеников паренёк из местных — Васюков, совершенный михрютка. Так тот такого страху натерпелся из-за шутки Гриши, что описался прямо в постели. И с тех пор стал предметом насмешек ребят, а того более — прямо задразнили. Затаив обиду, он решил отомстить.
Как-то, перед сном, когда все ожидали очередной интересной истории от Гриши, Васюков неожиданно предложил:
— А давайте я расскажу.
— И чего такого интересного ты расскажешь? — засомневались товарищи.
— А вот послушайте, тогда и узнаете.
— Да п-пусть, — снисходительно разрешил Гриша, которого начали утомлять ночные рассказы.
— Совсем недалеко отсюда, — начал Васюков, — начинаются жуткие топи, молдаване называют их Окий дракулуй — Чёртовы глаза. Об этих топях рассказывают страшные вещи, будто человек, если попадёт туда, или сгинет…
— Т-так что ж с того? — перебил его Гриша. — На т-то она и топь — нечего т-туда и лезть.
— А ты не перебивай, — недовольно сказал Васюков. — Дослушай сначала… да, так… э-э… вот. Жили в нашем селе два мужика, два друга: дядька Ион и дядька Штефан. Пошли они как-то раз в лес за дровами. Ну, дело-то обычное. Взяли с собой вина хорошего, да хлеба, чтоб, стало быть, перекусить… во-от. Рубили, пилили, складывали. Под конец уморились, перекусить решили. А вино-то доброе, крепкое, а день-то жаркий, душный… и сморил их сон. А как проснулись — солнце-то на закат пошло. Ну, они что могли, то с собой взяли. Да место приметили, чтоб, значит, назавтра вернуться. Идут, идут они по лесу, да стали замечать, что под ногами сыро становится. Почесали в затылках — не туда, выходит, идут. И попали они, стало быть, в болотный лес. А с детства знали, что этот лес — место гиблое, ночевать тут нельзя, попадёшь прямо к чёрту, да и поминай как звали. А ещё старики сказывали, будто если в ночную пору кто голоса в том лесу услышит, тот памяти лишится, на всю жизнь хворым останется. А если уж увидит чёртовы глаза на болоте — сам станет чёртом. И одолел тут их страх. А тут ещё луна своим неживым светом стала искажать деревья, и им стали мниться какие-то зловещие морды, заросшие мхом от старости. Да туман над болотом стал густеть и оформляться в какие-то страшенные чудища. Кинулись они назад, побросав дрова, да только ноги сами несли прямо в болото. И тут дядька Штефан ясно услышал голоса, называющие его по имени, зовущие. А дядька Ион и того хуже — вдруг увидел в тумане горящие красные глаза, в упор смотрящие на него. И ноги вдруг сделались каменными, он стал медленно погружаться в трясину. Но дядька Штефан из последних сил заткнул тряпками уши, схватил Иона и потащил из трясины. Как они выбрались из болотного леса — про то неведомо. Да только вышли на опушку через два дня, их уже искать начали. Дядька Штефан с той поры память и потерял, только и помнил всю жизнь про болото — и всё. А дядьку Иона все стали сторониться — никто не выдерживал его взгляда, от него шло одно зло. Молдаване его прозвали Окий дракулуй — Чёртовы глаза. Потом и топи стали так называть.
Когда Васюков закончил свою страшилку, наступило молчание.
— Б-брехня, — подытожил Гриша.
— А вот и нет, — тут же возразил Васюков. — У нас в селе до сих пор помнят про дядьку Иона и дядьку Штефана. Говорят, что это не они вышли из леса, они сгинули в болоте.
— А… кто ж тогда были… ну эти, двое? — шёпотом спросил кто-то из темноты.
— Нечистый.
— Б-брехня. Уж я бы не с-сгинул, — снова подытожил Гриша.
— А вот попробуй, — поддразнивал Васюков.
— И п-попробую.
— Да брешешь. Со страху, небось, храбришься.
— А в-вот и нет. А д-давай на спор?
— Давай.
Призвав в свидетели товарищей, они поспорили, что Гриша один пойдёт в эти топи.
Но покидать территорию школы, даже в праздники, без разрешения надзирателя или директора запрещалось категорически. Хотя именно в праздник у учеников было освобождение от работ, и много свободного времени. Поэтому, дождавшись праздничного дня, группка учеников сумела улизнуть, не боясь, что их быстро хватятся.
Дойдя до леса, Васюков, с двумя товарищами-свидетелями, остался ждать, а Гриша спокойно направился в топи.
Ждать-пождать, а его всё нет. Уж день к вечеру клонится — а его нет.
Первым не выдержал Васюков.
— Вот что, братцы, — неуверенно начал он, — назад пора, не то хватятся.
— Ага, пора! — накинулись на него товарищи. — А Берёза там, да?! А ну как сгинул?! А всё ты!
— Да… да ведь он сам спор предложил, — слабо оправдывался Васюков.
Но все понимали, что дольше оставаться никак нельзя.
Назад шли донельзя удручёнными и подавленными — что скажут надзирателю?!
На их счастье педагогам было не до них — гуляли. А поутру ребята с удивлением увидели мирно спящего на своей кровати Гришу. Но его отсутствие всё же не осталось незамеченным, нашлись «добрые люди», доложили Комаровскому.
На строгом допросе Гриша простодушно признался надзирателю, что ходил в Кокорозены на… жок. А так как наученная Гришей троица подтвердила его слова, то он подвергся лишь лёгкому наказанию — дежурство на ферме вне очереди. Да и то сказать — всего-то неделю, ибо он уже тогда пользовался расположением Комаровского. И была на то весомая причина. Дело в том, что Комаровский, помимо основных обязанностей, преподавал церковное и светское пение, причём так умело, что кокорозенская школа славилась на весь уезд своим хором. И в этом хоре не последним звучал голос Гриши, а уж если соло — заслушаешься. И вот что удивительно: когда он пел, то совсем не заикался. Вот потому зачастую и прощались ему его шалости.
Но когда сгорающие от любопытства товарищи пристали к нему с вопросами о его блужданиях по топи, то… ничего не услышали. Гриша молчал, и никто и никогда не узнал от него ничего. Лишь только появилась у него одна странная особенность: в минуты гнева его карие глаза делались настолько страшными, что буквально парализовали волю человека. «Окий дракулуй» — так иногда называли его молдавские крестьяне после знаменитых набегов на поместья.
Самые тоскливые дни для Гриши наставали, когда наступали рождественские каникулы, и почти все ученики разъезжались по домам. Оставались лишь те, кому некуда было ехать. И среди них Гриша. Да и то сказать — куда ехать, к кому? Из писем сестры Сони он узнал, что она вышла замуж за управляющего Горского и переехала к нему. Николай подался в Кишинёв на заработки. А Леночку тоже сосватали за местного крестьянина, и теперь в их доме новая семья. А нечего говорить про Марийку — та на учёбе в Кишинёве, в женской гимназии. Вот и получается, что Гриша — отрезанный ломоть. Единственная отдушина — книги. В училище — богатейшая библиотека, и он зачитывался взахлёб любимыми историческими романами, да ещё постоянно наведывался в кузню.
Кузнец Максимыч, весь почерневший от угара, огромный, волосатый, поначалу принял его посещения лишь как желание «поразмяться» молотом. Потому и покрикивал часто:
— Куды бьёшь, тетеря?! Гляделки повылазили?! Мотри, Гриня, я те не падагог, я ить могу и треснуть!
Какие были затрещины у скорого на расправу кузнеца Гриша знал от того же Васюкова, которому доставалось от него более всего за копотливость. Поэтому он старался не только попусту махать молотом, а ещё освоить и кузнечное дело. И по прошествии нескольких лет он даже заслужил своеобразную похвалу от Максимыча.
— Я те, Гриня, чё хочу сказать: лошадь подковать, али струмент справить — тут ты мастак. Да ить не выйдет из тебя кузнец, нипочём не выйдет.
— Это ещё п-почему? — обижался Гриша.
— А потому… железо надоть чуять, а ты не чуешь. Машешь молотом, гнёшь железо, а думаешь о своём. Нету у тебя энтого… как его… ну, чего-то нет. А парень ты тово… справный.
«Справный» парень в однообразных школьных буднях старался не терять своё «я», постигая первые азы тяжёлого сельского труда. И здесь же к нему пришла первая любовь.
У неё было красивое имя — Мариуца, но Гриша называл её просто — Марийка.
Он её впервые увидел на празднике Мэрцишор*, празднике весны (преподаватели, понимая, что иногда воспитанникам нужно отвлечься от тяжёлых будней, разрешали повеселиться в селе — но только на Рождество и Мэрцишор), и сразу выделил — в её больших тёмных глазах отражались звёзды захолустного и тайного неба. И сама она, как показалось Грише, являла собой некую тайну, которую ему предстояло разгадать.
Смущаясь и стыдясь своего заикания, он подарил ей красно-белую нить (мэрцишор) с двумя цветками, красным и белым, чтобы носить, согласно обычаю, в волосах весь март. И она приняла подарок, а это многое значило: значит, он ей не равнодушен! И сразу запела, заиграла душа, как молдавский флуер!
Гриша знал обычаи молдаван, песни и танцы, хорошо говорил по-молдавски, поэтому, взяв Мариуцу за руку, повёл её танцевать хору*.
Под аккомпанемент сельского оркестра — тоба, чимпой, флуер, кобза, скрипка — быстро и весело кружились в противоположных направлениях по внешнему и внутреннему кругам, крепко держась за руки, парни и девушки. Мелькали ноги в самодельных постолах, развевались на ветру юбки, украшенные внизу мережкой, клонились кушмы (бараньи островерхие шапки) на головах парней, всё убыстряя темп вовсю «жарил» оркестр, время от времени, подогревая темп, слышались гортанные «трели» парней — всё это вихревое действие возбуждало, заставляло играть молодую кровь.
После танца, взявшись за руки, Гриша с Мариуцей бродили на краю села, глядя, как пламенеющий закат зажигает звёзды. И звёзды зажигались в девичьих глазах, и румянец рдел на её смуглых щеках, и не было сил оторвать от неё взгляд.
Гриша чуял смущённой душой незнакомое чувство, охватившее всё его существо, от которого делалось сладко-сладко.
Просыпающаяся от долгого зимнего сна степь была похожа на стыдливую женщину, с которой вдруг сорвали белое покрывало, оголив грудь, сморщенную и мятую, как после тяжких родов. И ветер насквозь продувал безволосую степь, принося с собой лишь лёгкое шуршание прошлогоднего иссохшего ковыля, да своим зябким дыханием вызывая дрожь.
Но ничего этого не замечали влюблённые. Они молча шагали рука об руку, но в этом молчании была страсть нарождающейся любви и затаённых желаний.
— Кынд о сэ ревий? — нарушила молчание Мариуца.
Гриша вздохнул. В училище — не забалуешь, весь март — подготовка к севу, и строжайший распорядок дня — а нечего и говорить про отлучку! Надзиратель Комаровский в эти дни был особенно строг. Но Гриша также и знал, что нет таких преград, которых он бы не преодолел.
— Марийка, ту штий… ту аштяите.
— Ту сэ штий… еу ын фиекаре сяре мерг ла фынтэнэ дунэ анэ… ла маржиня сатулуй, — подсказала Мариуца.
Как ни был строг и бдителен Комаровский, как ни суровы порядки в училище — ничто не могло удержать влюблённого! Гриша исхитрялся порой улизнуть от всевидящего надзирательского ока и с трепетом дожидался у заветного колодца свою избранницу. Там обменивались они жарким страстным шёпотом и робкими поцелуйчиками.
А в конце марта снова хора и жок за околицей.
И проснувшуюся степь теперь было не узнать: недавно оголённая и сморщенная, она заколосилась разнотравьем, сочным и зелено-ярким, налилась, как грудь молодой женщины, соком. И ветер разносил изумительно тонкий аромат проснувшейся земли, напоённой молодым животворящим соком растений, пробуждающим к жизни всю мелкую бесчисленную армию существ, населяющих её обширные пространства. И на душе становилось легко и весело! Так весело, что Гриша, глядя в глаза любимой, тихо запел по-молдавски:
Встань возле меня, ненаглядная моя,
Позволь мне пожать твою руку,
Как вчера вечером у колодца, Мария-Мариуца.
Я приколол цветы к шляпе, прицепил бусы,
Чтобы на них с гордостью смотрела моя ненаглядная.
Я надел рубаху разукрашенную и не боюсь никого,
Надоела мне тяжкая работа, плуг и лопата,
Широкий заступ да чиновники,
Сегодня веселятся люди, пусть треснут мои сапоги,
Пусть умру, с тобой танцуя, Мария-Мариуца.
И Мариуца, слушая Гришу, неотрывно глядела на него, и её щёки полыхали как утренняя заря!
После танцев парни и девушки шли к недальним деревьям, где развешивали на ветвях свои мэрцишоры, загадывая при этом желание. Повесила свой мэрцишор и Мариуца, да только не успела загадать желание — налетевший порыв сдул его и унёс вдаль.
— Ун семы рэу, — огорчилась Мариуца.
— С-сэ те гындешть — че вынт. Щи атыт… я т-тэ о сэ абсолвез шкоала, о сэ мэангажез ла господарул касей де к-културе, о сэ ам ляфэ бунэ щи ат-тунчь, о сэ ревин д-дунэ ти не, — успокоил Гриша.
— Aдевэрул? — обрадовалась девушка.
Гриша не ответил, но посмотрел на неё с такой любовью, что сердце, нежное девичье сердце радостно и учащённо забилось.
Но напрасно радовались молодые, отцу Мариуцы уже донесли об их «тайных» встречах.
«Вот какая у меня дочь, — с гордостью думал старый Аурел. — Заневестилась уже… пора и замуж. Да и свадебное ожерелье уже готово».
Он открыл сундук и достал свадебное платье дочери, вышитое её же умелой рукой: белая длинная рубаха с льющимся по рукавам тончайшим узором, переходящим на ворот, на грудь, и чёрная клинообразная юбка, расшитая красным поперечным узором — какая мастерица! Но особая гордость — ожерелье. Много лет его заботливо собирали из подаренных родственниками коралловых бусин, монет и перламутра — чудо как хорошо получилось! Ожерелье готово — пора и замуж!
Гостил у него недавно старый друг Михай из соседнего села, да напомнил, лишь только увидел Мариуцу, о давнем уговоре:
— Че фийкэ ай мындрэ, Aурел… e тимпул сэ тримиць пециторий, фиул меу е адевэрат бэрбат. Ций минте ынцележеря ноастрэ?
— Кум ну цин минте, — ответил радушный хозяин. — Еу, Михай, кувынтул меу ыл цин. Tоамна о сэ жукэм нунта.
И Михай, изрядно нагрузившись вином, отбыл, чрезвычайно довольный, домой.
Но тут неожиданно нарисовался этот… с училища. Старый Аурел обрадовался тому, что его Мариуца такая красавица — вон как парни за ней! Но тут же решил принять меры: запретил отлучаться из дома, за водой стал посылать младшего сынка — а нечего тут всяким школярам без роду и племени соваться до его дочери!
Гриша затосковал, не спал ночами, был угрюм и молчалив. И однажды на спевке в хоре затянул, к немалому удивлению товарищей, молдавскую дойну*, грустную и печальную, да так, что хватало за сердце:
Дни ли длинные настали,
Провожу я их в печали,
Дни ли снова коротки,
Сохну, чахну от тоски…
Лист увядший, лист ореха!
Нет мне счастья, нет утехи,
Горьких слёз хоть отбавляй,
Хоть колодец наполняй.
Он глубок, с тремя ключами,
Полноводными ручьями,
А в одном ручье — отрава,
А в другом — огонь и лава.
А ещё в ручье последнем
Яд для сердца, яд смертельный.
Все были поражены: как, Берёза, всегда такой решительный, весёлый и вдруг — такая тоска одинокой души! Вся печаль дойны — на его лице. Даже Васюков пустил слезу! Уж он-то знал, что это первая часть дойны — дора (грусть) и что второй части, весёлой, переходящей в пляс, им уже не дождаться.
А когда осенью Мариуцу сосватали и увезли, Грише показалось, что ничего хорошего в его жизни уже не будет.
Но он был молод и охоч до жизни, да и учёба в Кокорозенах закончилась, и, наконец, настал момент выпуска и распределения на практику.
В кабинете директора Киркоров с Комаровским рассматривали списки практикантов.
— Котовский Григорий… а ведь неплохой парень. Среди первых учеников, опять же — немецкий язык усердно учит. Да в хоре весьма отменно поёт. Ведь так, Николай Потапович?
Комаровский, посмотрев на директора, вздохнул.
— Так-то оно так, Иосиф Григорьевич…
— Помилуйте, Николай Потапович, да что ж это вы вздыхаете? Ежели у вас какие сомнения — пожалуйте высказать. У нас, знаете ли, лучшие выпускники и направляются в лучшие поместья.
— Да всё так, Иосиф Григорьевич, и… не так. Чего-то в нём нет… хотя, нет, наоборот — слишком много максимализма. Он максималист: или всё, или ничего.
— Что ж в том плохого? Максимализм свойствен людям… высокого полёта.
— Да, это так, но… его максимализм чрезмерен. Повторюсь: или всё, или ничего.
— Сгущаете вы краски, Николай Потапович. Опять же — на практику посылаем, а уж после, по отзывам, и решим: давать или не давать документ об окончании училища. Только вот куда же нам его послать? Да, пожалуй, пошлём к помещику Скоковскому в Бендерский уезд. У него имение большое, есть где развернуться. Вы не против?
— Воля ваша, — пожал плечами Комаровский.
— На том и порешили, — заключил директор.
Глава третья
Мечислав Скоковский, проживая в Бессарабии, в своём имении «Валя Карбуней», среди молдаван, гордился тем, что он не молдаванин.
— Кто такие молдаване, господа? — любил спрашивать он в помещичьем клубе «Господарул касей де културэ», удобно развалясь в кресле с папиросой. — Разве это нация? Это помесь румын и цыган: туповаты, вороваты, ленивы. За ними глаз да глаз… да разве уследишь? Мы, русские шляхтичи, конечно, можем жёстко держать всю эту… э-э… голытьбу в узде, но ведь нужен толковый помощник. Нет, ну конечно есть у меня толковый управляющий, но, изволите видеть, его никак не хватает на всё. Потому я и просил уважаемого господина Киркорова, директора училища в Кокорозенах, прислать дельного выпускника в помощь моему управляющему. Вот, ожидаю со дня на день.
Григорий прибыл в его имение в конце декабря.
С удовольствием оглядев крепко сбитую фигуру молодца, Скоковский углубился в чтение рекомендательного письма, что привёз с собой выпускник.
А Григорий меж тем почтительно ожидал, осторожно осматривая кабинет и его обладателя. «Обладатель», мужчина средних лет с пухлыми холёными щеками, щегольскими усиками, производил впечатление.
«Барин», — уважительно подумал Григорий.
Да и кабинет под стать хозяину: вдоль стен шкафы из морёного дуба с толстыми фолиантами, на стенах — портреты каких-то важных людей и большой ковёр, увешанный старинным оружием; солидный письменный стол из такого же морёного дуба с чернильницами, пресс-папье, стопками бумаг; огромный диван-тахта с мягкими валиками, как видно, для хозяйского отдыха. И воздух, казалось, был пропитан деловым духом успешного хозяйственника. Да и сам дом, который успел рассмотреть Григорий, с колоннами по фасаду, с большой верандой, зимним садом, с просторными залами — всё говорило о том, что хозяин — крепкий помещик, не чурающийся красивой жизни. Конечно, ему далеко до князя Манук-бея… но в таком солидном хозяйстве можно большой опыт приобрести, лишь бы взял хозяин на практику.
— Ну те-с, — произнёс Скоковский, закончив чтение письма, — отзывы весьма похвальные, а посему я принимаю вас, юноша, на полугодовую практику в качестве помощника управляющего моим имением. Положу вам жалованье для начала… тридцать рублей («Ого!» — мысленно обрадовался Григорий), жить будете во флигеле — вам покажут. А работа… работа вам знакома. Угодья мои весьма обширны — четыреста семьдесят десятин (Григорий ахнул: почти как в училище!), и мой управляющий просто не успевает за всем хозяйством уследить. Да батраки — молдаване, а за ними глаз да глаз. Проя̀вите себя хорошо — возьму вас после практики на постоянную работу с хорошим жалованьем. А пока… пока, юноша, расскажите немного о себе.
Чем дольше о себе рассказывал Григорий, тем больше он нравился хозяину: и то, что он сирота («Отменно, — думал помещик. — Значит, будет у него интерес устроить свою жизнь»), и то, что наполовину поляк («Опять хорошо, — радовался хозяин. — Значит, прижмёт как следует этих лодырей-молдаван»), и, наконец, то, что разбирается в винокурнях («Отменно, — снова радовался хозяин. — Значит, поможет и производство моего вина наладить»). По всему выходило — нужный человек в хозяйстве… если не врёт.
«Ничего, посмотрим… ну а если врёт — в шею!» — подумал хозяин. А вслух сказал:
— Идите, Григорий, к управляющему — он вас устроит.
— Да, барин, — слегка поклонился Григорий.
И это тоже очень понравилось Скоковскому — понимает парень разницу между ними!
Управляющий, вертлявый, зоркоглазый грек, сразу загрузил его работой, поучая:
— Называть меня будис — господин управляюсий. Объедес все поля, посмотрис зяби, затем — всю технику, где надо — наладис. Да смотри у меня, будис отлынивать — острафую, а если воровать — выгоню!
— Н-не извольте беспокоиться, г-господин управляющий. Я всё понял, в-всё будет сделано, — смиренно ответил Григорий.
Поселившись в одной из комнат флигеля, вместе с прислугой, новый помощник управляющего рьяно взялся за дела и… тут же прослыл чудаком.
— Этот-то… новенький, — делилась сомнениями челядь, — тово… чудит. По утрам, слышь-ка, снегом натирается… бр-рр! Да ишо железяки тягает — чудно̀, право.
— А вечерами-то, вечерами бубнит у себя чегой-то не по-нашему. Может, запрещённое… доложить бы барину, а то как бы чего не вышло.
И барину доложили.
Скоковский вызвал к себе молодого практиканта якобы для отчёта, хотя все отчёты по хозяйству ему ежедневно докладывал управляющий (да и не особо он себя утруждал заботами, проводя, в основном, время в Бендерах, в помещичьем клубе).
Выслушав Григория, Скоковский похвалил:
— Что ж, любезный, весьма, весьма вами доволен… да вот и управляющий такого же мнения о вас. А что вас особо привлекает в…э-э… мн… сельском труде?
— Агрономия, б-барин, — вежливо ответил Григорий.
— Ах, вот как. А вообще… кроме агрономии, интересуетесь ещё чем-то? — осторожно поинтересовался помещик.
— Немецким языком, б-барин.
— Да-а? — искренне удивился Скоковский. — Позвольте… а зачем вам знать немецкий язык? Немцев у нас нет, а молдаване, насколько я знаю, говорят исключительно по-молдавски.
И он засмеялся, искренне радуясь своей шутке.
Вежливо подождав, пока барин отсмеётся, Григорий продолжил:
— Хотел бы з-закончить высшие агрокурсы в Германии, чтобы с-стать полным агрономом.
— Ах, вот как… да вы, любезный, цель имеете.
Помещик уже с интересом смотрел на практиканта.
— А позвольте спросить, — продолжал он, — учёба за границей — это, знаете, весьма недёшево. У вас что же — и деньги на это есть?
— Мне изволили о-обещать его сиятельство князь Манук-бей… если в-выучу немецкий.
— Вот оно что! — вновь удивился Скоковский. — Да вы и впрямь не промах! Далеко пойдёте, юноша… однако, позвольте, а все эти… э-э… мн… снежные процедуры, железяки… что, тоже во имя Германии?
— Во имя з-здоровья, барин, — почтительно поправил Григорий. — Ведь только, к-как вы знаете-с, в з-здоровом теле — здоровый дух.
«Ну, управляющий и должен быть силачом, — подумал хозяин. — Легче раздавать, ежели надо, зуботычины этим нерадивым молдаванам».
— Что ж, юноша, — подытожил помещик. — Если вы и впредь будете так хорошо работать и… так хорошо оздоровлять свой дух, то по окончании практики вам обеспечен будет отличный отзыв. Я вас более не задерживаю.
Беседа с хозяином окрылила, и Григорий продолжал работать с новым рвением. Даже придирчивый, всем недовольный управляющий не мог ни к чему придраться.
Вскоре наступило Рождество, и в поместье вернулось всё семейство Скоковского, гостившее в родном украинском имении жены: супруга Мария с детьми — пятилетним Севой и двухлетней Ксюшей.
Перед их приездом весь двор был на ушах… кроме хозяина, тайно вздыхавшего: прощай вольная жизнь, прощай клуб и… ещё много чего прощай.
А Григорию любопытно было увидеть семейство барина и, особенно, его супругу, о которой с таким уважением говорила вся прислуга, не подозревая, что их приезд станет для него роковым.
Мария Семёновна Скоковская была из старинного украинского рода, и в дальних родственниках у них был даже сам князь Сангушко, этот известнейший в России поляк-конезаводчик. Что и подвигло, в конечном счёте, Скоковского, чрезвычайно польщённого таким родством, к предложению руки и сердца. Но их совместная жизнь по-настоящему не сложилась — уж слишком разными людьми они оказались (ну не мог Скоковский перенести, что супруга гораздо его умнее!), не было понимания, а значит и любви.
Богатая библиотека, дорогие картины, толстые журналы «Вестник знания», «Русское богатство», либеральные газеты «Русское слово», «Речь», а нечего говорить про знаменитый журнал «Нива», где печатались Чехов, Станюкович — чего же ещё нужно, чтобы прослыть просвещённым либералом?!
А нужно было малое — душа. Вот чего не было, того не было… вернее, было, но её внутренняя форма не соответствовала внешней. И если внешне Скоковский довольно успешно ораторствовал в помещичьем клубе «Господарул касей де културэ» («Фи-и, опять молдавское название! Но чего ж не сделаешь, господа, ради либерализма!»), слыл даже просвещённым и культурным, то внутренне оставался совершенно равнодушным к своим же высказываниям, предпочитая более приземлённые фантазии и мыслишки. И об этом знала его жена, вызывая у него неприязнь, раздражение… и жгучую ревность. Он ревниво относился не только к её уму, а того более — к её красоте, помимо своей воли ревнуя буквально ко всем. И понимал, стараясь не признаваться себе, что его жена — редкая женщина. Оттого и ревновал ещё больше.
Поэтому после рождения дочери Мария Семёновна старалась, под предлогом особого ухода за слабой здоровьем дочкой, чаще уезжать в своё имение. Да муж и не возражал — для него тогда наступали вольные времена.
Теперь они возвратились, вместе с гувернанткой фрау Мартой, надменной и ворчливой особой, и домашним доктором Стембицким, красноносым унылым типом.
Едва увидев издали барыню, Григорий обомлел — в жизни не видал такой красавицы! И этот гордый профиль, и эта изящная шея, красивые руки и огромные глаза, в которых плескалась такая синева, что делалось жарко и…о-о, какая женщина!
А какая простота в общении с дворней! Никакого высокомерия… а улыбка, улыбка — воистину богиня! И эти милые жалобы:
— Ах, Мечислав, — устало улыбаясь, говорила она, — эти дороги… одни ухабы, так растрясло. Представь себе — с фрау Мартой едва не сделалось дурно!
Мечислав Станиславович слегка поморщился, представив в дороге гувернантку, эту женщину «грандиозного телосложения и микроскопического ума».
«А… чтоб её, эту фрау, приподняло да хлопнуло! — неприязненно подумал Скоковский. — Теперь начнётся бесконечное нытьё: то, да сё… тьфу!»
Но вслух посочувствовал:
— Да, дорогая, эти дороги, эти степи… но всё готово к празднику. И всё забудется… что Ксюша, Сева? Как они?
— Сева молодцом, но Ксюша капризничала всю дорогу… однако нам надо отдохнуть хорошенько.
— Всё, ни слова больше не скажу, пожалте в апартаменты, — шутливо расшаркался супруг.
И большой помещичий дом сразу наполнился суетой и суматохой: челядь куда-то бегала, сновала, суетилась. Глядя на порхающих хорошеньких горничных, доктор, сменив свой унылый вид и плотоядно облизываясь, норовил каждую ущипнуть за мягкое место, вызывая повизгивание и похохатывание. Домашние знали о слабостях доктора, коих было две: вино и женщины. Но они также знали, что он был вполне безобиден… в отличие от хозяина — но то хозяин!
Специально к Рождеству Григорий, по заданию управляющего, привёз красивую ель, которую установили посреди двора, украсив всевозможными игрушками, мишурой и увенчав вифлеемской звездой. Ожидался приезд детворы с ближайших поместий, и Скоковский не хотел ударить в грязь лицом.
И вскоре двор заполнился повозками с приехавшими соседями, наполнился детскими звонкими голосами, музыкой и весельем, а для дворни — заботами и заботами.
Скоковский, если гулял, так уж гулял, желая поразить гостей во что бы то ни стало. У него для этого даже была своя оранжерея со специально приставленным садовником. Получая из собственных садов овощи и фрукты, имея огромные запасы и свежих, и сушёных фруктов и овощей, и различных маринадов, и варений и солений, он требовал выращивания в оранжерее экзотических фруктов: бананов, ананасов, фиников, ягод. И, желая поразить гостей заморскими диковинами, он, как бы между прочим, говорил:
— А вот, господа, не угодно ли попробовать клубнички, ананасов, спаржи… намедни, прямо из Парижа доставлено.
И хотя все гости знали об оранжерее, вслух обычно восторгались, пичкая изысканной свежатиной своих детей — у них-то всего этого не было!
И пока господа веселились со чада и домочадцы, прислуга, в свободное время, тоже праздновала Рождество.
Григорий любил ходить на рождественские колядки — да теперь не до того, управляющий загрузил работой сверх меры.
— Как это у вас, русских, говорят: как потопаес — так и полопаес, — наставлял он Григория. — Зима… это для господ зима. Им — веселье, нам — работа… к севу надо, Грыгор, готовиться, к севу, понял?
— Да, г-господин управляющий, — отвечал Григорий, собираясь на дальние поля.
Он предпочитал, в отличие от управляющего, объезжать поля верхом, подставляя грудь навстречу морозному воздуху, не боясь простуды. Его закалённый организм привык к любой непогоде и тяжёлой работе, и батраки-молдаване, что называется, вытаращив глаза смотрели, как он в одиночку ворочает дорогущую сеялку фирмы «МакКормик», отыскивая поломку.
Рождественские дни закончились, и если для господ настала пора уныния и скуки, то прислуга просто этого не заметила, постоянно находясь в хлопотах. Солнце постепенно, незаметно для господских глаз, но весьма заметно для крестьянских, принимало свой хозяйский облик, подготавливая спящую землю к возрождению, к выводу из спячки её многочисленных обитателей.
Мария Семёновна это состояние общей спячки особенно остро почувствовала, когда съехали гости и настали серые будни с их постоянными заботами. Мечислав Станиславович напротив, почувствовал огромное облегчение и использовал любой предлог, чтобы улизнуть из дома под видом проверки обширного хозяйства.
Мария Семёновна захандрила, и, почувствовав это, Стембицкий ей как-то сказал:
— Дражайшая Марья Семёновна, в вашем молодом возрасте ипохондрия опасна-с, ибо это грозит амбулией.
— Как-то вы всё по-своему… непонятно, нельзя ли по-простому сказать?
— Отчего-с нельзя, можно. Мы, доктора, для того и приставлены-с, чтобы лечить-с… да только лучше упредить-с возможную болезнь. Я имел ввиду-с чрезмерное… э-э… употребление пищи от скуки-с.
— Ах, Модест Петрович, — вздохнула помещица, — с детьми фрау Марта, супруг постоянно занят… скучно.
— Э-э, матушка, уж послушайте старика: чаще бывайте-с на воздухе. Воздух чудо как свеж и чист… да хотя бы во дворе-с.
— Пожалуй, вы правы… дневной моцион не помешает.
И помещица стала совершать ежедневные прогулки по двору, а то и в повозке в степь по крепкому ещё снегу, иногда беря с собой детей и ворчливую фрау Марту.
— Was ist das? — недовольно ворчала она, размещая своё многопудовое тело в повозке. — Das konnte nicht in den Hof zu einem Spaziergang gewesen?
В ответ Мария Семёновна декламировала Пушкина:
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня.
И посетим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
— Sie, Russian, seltsame Menschen… und Puschkin Ihren seltsam. Welch ein Vergnügen, die leeren Felder zu besuchen? Anstatt etwas zu tun, das leer Genüsse, — парировала гувернантка.
— Ah, Frau Martha, Sie, die Deutschen, zu Rational, und die Seele Sie auch zu Rational. Dieser Rationalismus eines tages werden Sie ruinieren.
Посмотрев на неказистую фигуру гувернантки в повозке, Мария Семёновна весело расхохоталась, за ней рассмеялись и дети, вызвав новое неудовольствие немки. Во время поездки она только и делала, что беспрестанно ворчала:
— Schnee eintönig Steppe...nackte Wald — was für ein Vergnügen, wie eine Landschaft zu sehen? Die Sehnsucht…
— Тоска? — удивилась Мария Семёновна. — А мне весело… правда, детки? Вам весело?
— Плавда, мама, — поддержал Сева.
Такие поездки, да прогулки во дворе давали бодрый заряд в однообразной сельской жизни.
Но как-то раз она, забывшись в хлопотах, вышла на моцион во двор только ввечеру. И, проходя мимо флигеля, где жила прислуга, с удивлением услышала… немецкую речь: мужской голос читал что-то из Гёте.
Донельзя удивлённая, она вошла во флигель, чем поразила обитателей — как, сама барыня пожаловать изволили?! Нешто провинился кто?!
Но она успокоила прислугу, просто спросив у подвернувшегося повара:
— Послушайте, любезный… а кто это здесь читает Гёте?
— Кого-с? — не понял повар.
— Э-э… мн… разговаривает по-немецки?
— Дык… как же-с… дык энто помощник управляющего-с Григорий, значит, Котовский изволит не по-нашему-с.
— А проводите-ка, любезный, меня в его комнату.
— Дык… как же-с… пожалте-с за мной.
Григорий на стук в дверь пошёл открывать, продолжая декламировать Гёте и, открыв дверь, буквально поперхнулся словами — на пороге стояла барыня! Да так и застыл с открытым ртом, не смея поверить.
— Здравствуйте, господин… э-э…
— Котовский, — услужливо подсказал повар.
— Да… господин Котовский.
«Очнувшийся» Григорий тотчас пригласил барыню в комнату, бормоча извинения.
— Скажите, — перебила его барыня, — это вы читали Гёте на немецком?
Григорий, весь полыхая, едва кивнул.
— Я-с…б-барыня.
— Вы что же, учите немецкий?
— Учу-с.
— Und wie geht es dir? — спросила, едва улыбнувшись, барыня.
— Плохо-с, — развёл руками Григорий. — Нет разговорной п-практики.
Григорий с мучениями буквально выталкивал из себя слова, боясь своего заикания.
— Но зачем, зачем вам знать немецкий язык в этой глуши, где даже и по-русски говорят с…э-э… мн… натугой?
Пришлось Григорию повторить всё то, что он говорил барину, и в конце скромно добавить:
— Я ещё м-могу и по-молдавски, и по-еврейски, и по-украински.
— Ах, вот как? — искренне удивилась барыня. — Вот вы, оказывается, какой, господин Котовский, полиглот.
— Поли… что? — не понял Григорий.
— Знаток языков… а хотите, я вас подучу по немецкому? У фрау Марты, конечно, получилось бы лучше, да она постоянно в заботах с моими детьми, да и уж больно ворчлива… так как?
— Д-даже и не смею н-надеяться.
— А вы посмейте, — улыбнулась барыня. — Положим… раза три в неделю вас устроит?
— К-конечно, — поспешил согласиться Григорий, но тут же спохватился:
— Но… б-барыня, я постоянно в раб-боте, хозяйство о-обширное…
— Так… вечерами, как будете свободны… и не благодарите, для меня это не обременительно. До свидания, господин Котовский.
Она ушла, оставив ошеломлённому Григорию, кроме тончайшего аромата духов, искорку своей души, которую приняла неопытная юношеская душа, заполыхав жарким пламенем.
И получилось так, что Скоковскому срочно понадобилось по делам в Кишинёв.
— Ну вот, Маша, приходится вас оставить, — сокрушался супруг, однако втайне радуясь тому, что, помимо дел, вволю наиграется в карты.
— Да надолго ли? — равнодушно спросила жена.
— Думаю… на две-три недели. Да ещё с винокурней надобно решить дела: оборудование, то, сё…
— Но ты, надеюсь, помнишь о своём обещании?
— Конечно помню, дорогая, — поспешил заверить свою половину супруг. — Как приеду — сразу в Одессу, всей семьёй.
На том и расстались.
А Григорий пребывал в совершенном волнении от предстоящей встречи. Для начала критически осмотрел себя в зеркале: лёгкая щетина («Придётся дважды бриться»), широкий лоб с намечающимися взлизами («Эхе-хе… красавѐц»), излишне подчёркивающими округлость головы… вообще он себе не понравился. А одежда?! У него даже не было приличного костюма… в чём перед барыней предстать?! В таком обтёрханном виде?
Переступая во второй раз порог усадьбы, Григорий фактически себя уничтожил душевными муками, терзаясь по разным пустякам.
В огромном доме, среди всевозможных залов, комнат, гостиных, спален и прочая, комната барыни выглядела скромно, но уютно: на стенах — картины с сельскими пейзажами, два шкафа с фолиантами книг, изящный стол со стульями на изогнутых ножках, два кресла, да небольшой диван. Видно было, что хозяйка здесь отдыхала душой. Да и сама она, в длинном светлом платье с глухим воротом, с копной аккуратно уложенных волос, была предупредительна и приветлива, сразу развеяв мучения и страхи Григория, не знавшего, куда деть ноги в сапожищах (правда, начищенных до блеска).
— Садитесь, господин Котовский.
— Я п-премного благодарен, барыня…
— Называйте меня просто по имени-отчеству, — перебила она.
— К-как вам будет угодно-с…М-Мария Семёновна, — выдохнул Григорий. — Т-только, пожалуйста, уж и вы м-меня Григорием…
— Вот и славно… Григорий. Пожалуй, начнём… я тут подобрала словари, пособия.
Их занятия носили непринуждённый характер, да и учеником Григорий оказался хватким и подготовленным. Сама Мария Семёновна держала себя просто, но на едва уловимом расстоянии, таком, что Григорий сразу это почувствовал, успокоив (с некоторым разочарованием) свои терзания, а может быть и тайные надежды.
Почти месяц продолжались занятия, и Григорий, благодаря своей знатной учительнице, заметно продвинулся в освоении чужого языка. Эти занятия окрыляли, возносили его, он жаждал встреч. Для него это были встречи с прекрасным, как ему казалось, совершенным существом, эталоном женщины. Своей смущённой душой он чувствовал её недоступность и «дальность», но одно лишь общение доставляло столь великую радость в его однообразной жизни, что он готов был сворачивать горы (работал так, что даже управляющий не понимал, как он всё успевает) …о-о, если бы она знала!
Но вся эта идиллия закончилась с возвращением хозяина.
Скоковский приехал злым и раздражённым. В помещичьем клубе в Бендерах, где остановился на пару дней, он в дым проигрался в карты. И теперь ему всё было противно: и дорога, с её ухабами и колдобинами, доставляющими боль воспоминаний; и дальний лес, в который норовили забраться бездельники-молдаване, чтобы порубить его деревья; и постылая степь с холодом необжитых пространств; и предстоящее однообразие деревенской жизни… и даже семья, которую он месяц не видел — всё доставляло раздражение и неприязнь.
«Канальи! — невесть про кого угрожающе думал он. — Кругом одни канальи! Кнута на вас нет!»
Челядь, испытав на себе не раз крутой нрав хозяина, особливо когда он не в духе, попряталась кто куда. И лишь особо доверенные лица, управляющий и камердинер, могли безбоязненно входить в его кабинет, не боясь быть битыми или обруганными.
Управляющего Скоковский слушал рассеянно, думая о своём, а посему грек быстро отчитался и ушёл по своим делам.
Камердинер Иван, по совместительству сплетник, наушник, соглядатай, доносчик… короче, глаза и уши хозяина, видя его скверное настроение, решил начать с главного… о-о, он давно имел зуб на хозяйку за её высокомерие и холодность! Поэтому, рассказав две-три сплетни для приличия, как бы между прочим «вспомнил»:
— Да, барин, мало не забыл-с… тут новенький, Котовский, чегой-то зачастил-с до нашей барыни. Запираются у ней в комнате-с вечерами…
— Что-о?! — аж привстал Скоковский. — Запираются?! И…и что? Ну, говори!
— Чем занимаются, про то неведомо-с, — развел руками камердинер, но при этом многозначительно глядя на барина.
— Т-ты думаешь, что…
— Думаю, амурами-с.
Скоковский рухнул на стул, закрыв рукой глаза.
«Неблагодарная… тварь! — яростно думал он. — Как смела она! В моём доме!»
Мария Семёновна у себя в комнате, полулёжа на диване, читала какой-то французский роман. Как вдруг дверь резко распахнулась, и в комнату прямо ворвался пышущий яростью супруг.
— Милостивая государыня, — начал он, задыхаясь от гнева, — потрудитесь дать объяснения.
Когда муж так «официально» начинал, значит быть скандалу.
— В чём я должна объясниться? — как можно спокойнее спросила, вставая с дивана, супруга.
— Ах, какое милое непонимание… бросьте! Вы отлично знаете, что я имею в виду! Не успел я уехать, как вы завели… завели… любовника! И где?! В моём доме!
— Да как вы смеете, сударь! — возмутилась супруга.
— Смею, сударыня, ещё как смею… и кого?! Какого-то мужика, без роду и племени! Этого… этого… практиканта, сосунка!
— Да будет вам известно, сударь, — холодно сказала Мария Семёновна, — что мы с господином Котовским занимались немецким языком… и ничем более!
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Скоковский. — Скажите, какая невинность — немецким… в запертой комнате! Вы мне… вы мне, сударыня, нанесли жестокое оскорбление в моём доме своей… своей изменой! И вы за это ответите…
— Вы что-то путаете, сударь, — возразила супруга. — Это у вас в каждой деревне по несколько девок, это у вас в Бендерах содержанки и это у вас…
— Ма-а-а-лчать!! — уже не владея собой, закричал Скоковский, замахнувшись рукой.
Мария Семёновна, бледная, но решительная, резко шагнула к нему и спокойно сказала:
— Ударишь? Попробуй, ударь дворянку — ну?!
Скоковский сразу струхнул, вспомнив о её могущественных родственниках.
— Не-ет, сударыня, не-ет, — процедил он сквозь зубы. — Я ударю… но не физически, я ударю ещё больней.
Ворвавшись к себе в кабинет, он сей же час потребовал управляющего, и, лишь только тот появился, так люто глянул, что грек со страху прямо прирос к полу.
— Где, где этот молокосос?! — заорал хозяин.
— О…о ком изволит говорить барин? — поспешно спросил грек, одновременно радуясь, что хозяйский гнев направлен не на него.
— О Котовском… где эта каналья?!
— Послан мною в Бэндэры… продать партию свиней.
— Вот как… свиней! Ну, я покажу этой свинье как… как…
Скоковский осёкся, искоса глянув на управляющего — не всё надо знать слугам, все они канальи! Но его месть будет жестокой… о-о, он сумеет придумать месть! Он уже совершенно не владел собой, он готов был уничтожить молодого нахала, наставившего — он ни минуты не сомневался в этом — ему рога… о-о, дорого же заплатит этот практикант!
Управляющий совершенно не понимал, чем провинился Котовский, но раз барин так считает… то он готов выполнить его любое распоряжение по этому практиканту, потому и смотрел на своего хозяина преданно и выжидательно.
Наконец, с трудом взяв себя в руки, помещик махнул рукой, подзывая его к себе, и вполголоса сказал:
— Слушай сюда… сделаем так…
Григорий, тем временем, ни о чём не подозревая, возвращался, как всегда верхом, из Бендер, радуясь удачной продаже партии свиней. В кармане у него лежали 77 рублей! Несомненно, управляющий будет доволен. Но все мысли его были только о ней — сегодня он успеет на занятие, сегодня вновь он увидит и услышит её!
Прибыл он уже под вечер, во дворе поместья было необычно тихо, не было привычной суеты, но это его, занятого своими мыслями, никак не насторожило.
Но только он вошёл, ведя в поводу коня, в конюшню, как на него разом набросились слуги, повалили и, стащив верхнюю одежду, начали вязать. Григорий, ошеломлённый таким неожиданным нападением, даже не успел оказать никакого сопротивления. Его, связанного по рукам и ногам, бросили на грязный пол, крепко держа за руки и за ноги.
И тут появился барин с арапником. Хлестнув наотмашь Григория по спине, он приказал:
— Всыпать мерзавцу!
И тут же один из слуг начал охаживать Григория кнутом.
— Б-барин! — закричал Григорий. — За что?!
— За что?! И ты, сукин сын, смеешь ещё спрашивать?! За твои занятия… немецким. Ты у меня сполна получишь!
Григорий всё понял, и ему стало горько и обидно… за неё. Он даже не чувствовал боли, пусть бьют, лишь бы её не трогали… о-о, как жестоко ошибается барин!
А барин, со злорадным видом, радостно кивал каждому удару кнута. И если тело Григория наполнялось болью, то его тело наполнялось радостью мести.
Закончив порку, полубесчувственного Григория рывком подняли и куда-то потащили. Скоковский ещё не полностью утолил жажду мести, придумав страшный финал.
Бросив в сани обмякшее тело, несколько слуг повезли Григория куда-то в степь.
В наступившей тьме контрастно белел снег, и пробирающий мороз постепенно привёл Григория в чувство.
— Б-братцы, — простонал он, — куда вы м-меня везёте?
Его спутники молчали, но Григорий заметил, что его везут в сторону станции.
Через некоторое время сани свернули с дороги в степь, и смутное предчувствие охватило Григория. Он заёрзал, но его сразу прижали к саням, и кто-то грубо сказал:
— Не балуй!
Ещё через некоторое время сани остановились, его вытащили и бросили в снег.
— Что ж вы, б-братцы, меня, связанного, ра-аздетого, бросаете на м-морозе?
Но слуги всё также молча сели в сани.
— Д-да хоть ноги развяжите! — отчаянно крикнул Григорий.
— Барин не велел, — равнодушно бросил кто-то, и сани уехали.
Поняв своё положение, Григорий поразился жестокости барина — вот так просто человека на мороз?! На медленную и мучительную смерть?!
Повернувшись на бок и подтянув связанные под коленями ноги, он стал пытаться, помогая себе коленями, повернуть узел на связанных руках вверх. Когда его вязали, он инстинктивно напряг руки, и теперь верёвки ослабли, и можно было попытаться развязать их зубами. Узел удалось повернуть, и Григорий стал своими молодыми, крепкими зубами развязывать застывший на морозе узел, размягчая его своим дыханием. Мучительно долго, временами отрываясь и бездумно смотря в стылую тьму, пытался он развязать верёвки. Наконец, это ему удалось. Дыханием согрев онемевшие руки, он принялся за ноги, к тому времени уже основательно промёрзшие в сапогах. Узел, скованный морозом, не поддавался. Но половинчатый успех для Григория — не успех. Он понимал, что со связанными ногами ему далеко не уползти — непременно вызябнет. И это отчаянное положение придавало ему силы. Напрягая мышцы, стоная и рыча, он, сидя, расшатывал верёвки, временами согревая дыханием скрюченные пальцы — февральский холод медленно, но верно обнимал тело своими гибельными объятиями. Узел никак не поддавался. От отчаяния и бессилия Григорий беззвучно заплакал, в голову полезли нехорошие мысли: «Я застыну? И что? Моё мёртвое тело пожрут волки? Или черви превратят в прах меня, меня, такого… такого хорошего, такого молодого? И ничего от меня не останется? Но почему, почему?! Я же ещё так молод и я всегда был… и вдруг я не буду?! И не увижу больше яркого света, тепла и глубокого неба моей Бессарабии? Но это несправедливо! Мамочка, моя милая мамочка — спаси меня! Если ты видишь, если ты слышишь — спаси! Ты же любила своего сына… и я хочу любить, хочу, чтобы и меня любили так, как ты… о-о, как я хочу жить, жить!! Хоть чёрт, хоть дьявол — дай мне силы, дай, дай!!»
И вдруг в непроглядной тьме степи вдали показались светящиеся точки, приближающиеся, несомненно, к нему. Григорий похолодел — волки! Всё ближе и ближе… но точек оказалось всего две.
«Один, — с облегчением подумал Григорий. — С одним-то я справлюсь».
И он уже приготовился встретить незваного гостя, задушить своими скрюченными, негнущимися пальцами, как вдруг горящие точки остановились невдалеке, уставившись на него прямо в глаза! И не было сил отвести взор! И что-то смутное всколыхнулось в памяти, вздыбилось, навалилось… Григорий вдруг почувствовал, как наливаются силой его мышцы!
Неимоверным внутренним напряжением он встряхнул головой — видение пропало. То ли сон (а сон на морозе смертелен!) это был, то ли явь, только он принялся с новым остервенением за проклятый узел, и узел, наконец, подался. Ценой неимоверных усилий ему удалось, наконец, развязать и ноги. Но, едва поднявшись, он сразу упал — онемевшие и застывшие ноги не держали. Тогда он стал, с трудом стянув сапоги, разминать их руками, пока, наконец, не почувствовал лёгкое покалывание — верный признак «оживания» ног. С трудом встав, он почувствовал, как тысячи иголок впились в ноги, и каждый шаг давался с неимоверным трудом — но он шёл! И тут ему ещё повезло — выглянул месяц, залив мертвенным светом холодные враждебные пространства, скудно, но освещая санный путь. Идя по санному следу, он знал, что он его выведет к зимнику… а вот и зимник. Санный след уходил к поместью, но туда ему путь заказан, и он повернул к станции, не зная, сколько ему идти по морозу.
Он шёл, вначале медленно, потом всё быстрее и быстрее, на ходу согревая озябшие руки под мышками. И за ним следовал, словно бледная тень, его верный спутник — месяц, помогая не терять зимник, не сворачивать в гибельную степь. Уже начала сереть непроглядная стылая степь, и месяц стал таять, таять… пока совсем не пропал, а он всё шёл и шёл, пока, наконец, не показались огни станции… Кайнары!
И было событие в пристанционном кабаке.
Здесь витал, совместно с винным, и сонный дух, заставляя кабатчика клевать носом. Несколько посетителей коротали ночь, в ожидании поезда, за рюмкой «горькой», ведя неспешную беседу. Как вдруг дверь широко распахнулась, и в помещение вместе с клубами седого стылого воздуха ввалился раздетый, весь заиндевевший человек. Оглядев остекленевшими глазами изумлённых посетителей, он едва выдавил:
— В-водки.
И рухнул на стул.
Кабатчик засуетился, сразу подбежал с наполненным зельем стаканом и… ужаснулся — пришедший был избит и окровавлен. Как он ещё сумел сюда дойти?!
Григорий медленно, сквозь зубы, осушил стакан… и тут его, от тепла, стало колотить.
— Вам бы в постель надобно-с, — пробормотал кабатчик, жалостливо глядя на него.
Но Григорий говорить не мог, лишь слабо кивнул головой.
С трудом поднявшись, он проследовал за хозяином наверх.
И снова ему повезло. Когда его избивали, не удосужились обыскать, и в кармане брюк остались те самые 77 рублей, что выручил за продажу свиней — было чем расплатиться с кабатчиком. А историю «ограбления» Григорий, едва отойдя, сочинил: якобы он ехал на лошади в Каушаны по делам, да в степи, ночью, на него напали трое разбойников, избили, ограбили (но, слава богу, не всё нашли), бросили раздетого в степи помирать, но он сумел развязать верёвки и добраться до станции.
Кабатчик с сомнением качал головой.
— Нешто у нас, в степи, да чтоб грабили-с? Да отродясь не слыхивали о таком-с.
Но весь жалкий вид Григория явно свидетельствовал в его пользу, к тому же постоялец за всё платил, а в остальном — не его забота.
Однако, дело дошло до полиции — грабёж на дороге, неслыханное дело!
Прибывшему становому приставу* Григорий снова изложил свою версию ограбления. Становой, завсегдатай кабака, от которого уже с утра вкусно пахло закуской, слушал пострадавшего вполуха, временами вздыхая — эва как! Но всё же верил… и не верил. Но Григорий, к тому времени уже всё более тщательно продумавший, повернул дело так, что у него украли и документы, и направление на практику от кокорозенского училища. Дело могло приобрести такой оборот (если дойдёт до полицейского начальства — всем несдобровать!), что лучше его решить по-тихому.
— Не угодно ли написать-с заявление, господин Котовский? — выслушав, поинтересовался становой. — А с документами мы вам поможем-с.
— Н-напишу, — сразу согласился Григорий.
И вскоре со справкой из полиции и выправленными документами пострадавший отбыл из Кайнар.
Крепкий и закалённый организм Григория перенёс всё — не дал развиться хвори. И теперь он жаждал мести… о-о, месть его будет не менее жестокой! В уме он перебирал варианты один другого хлеще — но! Он вдруг вспомнил о ней… и сразу его воспалённый мозг притих, и он понял, что не может, не имеет права мстить, пока она там, с детьми. И что надо искать другое место для прохождения практики.
Но Григорий просто не знал, что буквально на следующий день Мария Семёновна, совершенно не ведая об экзекуции, устроенной её мужем над практикантом Котовским, но до глубины души оскорблённая дикой ревностью мужа, отбыла с детьми и гувернанткой к себе в имение, положив начало долгому и мучительному бракоразводному процессу.
А сам помещик, проводив со скандалом жену, пообещав напоследок забрать у неё детей, занялся, наконец, делами имения, дабы успокоить расшатанную нервную систему.
Управляющий, обстоятельно докладывая о состоянии дел, в конце доклада, помявшись, всё же сказал:
— Барин… а ведь деньги, цто Котовский выруцил от продазы свиней, у него остались.
— Как, этот… этот негодяй ещё и вор?!
— Так, барин, — поддакнул управляющий.
Опять этот Котовский!
— Да я… да я… на него в полицию заявлю! — закричал вне себя от гнева Скоковский, но тут же осёкся. На кого подавать — на мертвеца?!
В том, что Котовский мёртв, помещик не сомневался — попробуй выжить в зимней степи, да ещё связанным! Но на всякий случай послал слуг в степь, чтобы постарались найти, а того более — замести, хоть какие следы — да куда там! Дело было ночью, поди теперь определи место!
Изрядно струхнув, как-никак убийство, Скоковский приказал дворне об сём молчать под страхом наказания, а того более — повторения судьбы убиенного. После чего отбыл в Бендеры развеяться.
Глава четвёртая
Помыкавшись пару месяцев, проев все деньги, Григорий волею судьбы оказался под Одессой, в имении помещика Якунина.
Максимовка, где находилось имение, была прелестный уголок. Наступившая весна напоила воздух запахом распустившейся юной листвы, омыла молодым дождём землю, стерев с неё серые краски, покрыв ярким многоцветьем трав, распускающихся цветов. И ещё совсем недавно линялое, словно давно нестиранное платье, небо приобрело нежно-голубой цвет. И солнце, такое холодное и равнодушное зимой, теперь щедро дарило тепло, свет всему живому на земле, как бы вознаграждая за томительные месяцы ожидания.
Якунин, энергичный и ещё не старый помещик, что называется «любящий пожить», просмотрев бумаги из полиции и выслушав историю злоключений Григория, сочувственно сказал:
— Да-а, господин Котовский, досталось вам. Однако, я могу вас взять помощником управляющего… но с испытательным сроком. Согласитесь: без рекомендаций, без бумаг… это, знаете ли… во всяком случае мне нужен хороший, подготовленный специалист. Поработаете до осени и если покажите себя, то получите соответствующий отзыв. Ну как, согласны?
— Премного б-благодарен, барин.
— Ну вот и хорошо. А пока устраивайтесь во флигеле (Григорий едва заметно усмехнулся), вам покажут комнату.
Управляющий поместьем Осадчий, обличьем весьма похожий на филина, окинул цепким взглядом Григория, коротко обронил:
— Посмотрим, что ты за птица… Котовский. Для начала — наладь сеялку.
— П-понял, господин управляющий.
Григорий легко втянулся в предпосевную горячку, сразу обнаружив недюжинные знания и сноровку: контролировал полевые работы, заботился об обширном фруктовом саде, табачных плантациях, винограднике. Показал себя так, что вскоре Якунин, с подачи Осадчего, стал доверять ему вести и финансовый учёт.
Григорий воспрянул духом и стал продолжать учить немецкий, надеясь, наконец, осенью получить желаемый отзыв, документы об окончании училища, а там и в Германию по протекции князя. Но не зря говорят: человек предполагает, а Бог располагает.
В октябре, когда уже закончилась уборочная и остались последние мелкие незавершённые работы, Осадчий неожиданно распорядился:
— Григорий, ты вот что… ты давай-ка езжай в Одессу, дня на три.
— А з-зачем? — удивился Григорий. — Ещё не все раб-боты закончены…
— Тут и без тебя управятся. А ты в городе разузнай насчёт цен на зерно, свинину, табак… я отпишу кому надо. А заодно и город посмотришь… Одесса — это тебе не Кишинёв. Ну как?
— Так… премного б-благодарен, господин управляющий.
— Тогда сбирайся и езжай с богом… да возьми в сейфе, вот тебе ключ, деньги на проезд — десять рублей.
Григорию Одесса понравилась: большой портовый город, не чета пыльному Кишинёву. А море! О море он только читал в книгах и знал его по книгам. Но на деле… на деле оно совсем-совсем другое: и этот запах водорослей и солёных брызг; и эта безбрежная зеленовато-синяя даль, сливающаяся у горизонта с синим-синим небом; и бесчисленные стаи чаек, чиркающих в поисках рыбы острыми крылами белокипенные волны; и этот неумолкающий днём и ночью шум порта; и диковинные шустрые дельфины, стрелой проносящиеся под зеленоватыми прибрежными водами — всё это было необычно и привлекало, манило провинциала из дальней глубинки. Да и сама Одесса с её театрами, мостовыми, Толчком, с крикливыми толстыми тётками, с живой суетной жизнью давала пищу для фантазий и будущих ожиданий.
Донельзя довольный возвращался Григорий в Максимовку, где его ожидало пренеприятное событие. Тотчас по приезду он был приглашён к барину.
Якунин встретил его сурово в своём кабинете, там же находился и Осадчий, строго глядя своими совиными глазами на Григория. Почувствовав неладное, Григорий всё же начал было отчитываться о поездке, но был тут же прерван хозяином:
— О том после… сразу после вашего отъезда была выявлена пропажа двухсот рублей из моего сейфа. Что вы на это скажете?
Григорий почувствовал, как враз покрылись по̀том ладони, и стало жарко-жарко.
— Я…я, — забормотал он, — о том не ведаю, б-барин.
— Вот, господин Осадчий говорит, что вы брали деньги на проезд в Одессу, так?
— Б-брал, но… только десять рублей.
— А где же остальные? Господин Осадчий сразу после вашего отъезда обнаружил кражу… да-да, именно кражу.
Григорий растерянно посмотрел на управляющего, но тот со скучающим видом глядел в окно. Смутное подозрение овладело им… но что тут докажешь?!
— В-воля ваша, барин, но я не б-брал.
— А я как раз уверен в обратном. Одесса, знаете ли, город соблазнов… и всё такое прочее. Не угодно ли, господин Котовский, вернуть украденное?
— В-воля ваша, барин, но я не к-крал, — упрямо повторил Григорий.
— Вон вы, значит, как… упрямствуете. В таком случае я буду вынужден заявить в полицию.
И Якунин испытующе посмотрел на Григория, который от волнения сделался красным, как помидор, но смотрел на хозяина не с испугом, а как-то грустно и… безнадёжно. И помещику неожиданно сделалось жаль этого в общем-то работящего и знающего юношу. Помолчав, хозяин сказал:
— Впрочем… не хочу вам ломать жизнь, ещё такую юную, господин Котовский. А посему я просто удержу ваше жалованье за полгода, что вы у меня работали.
Он снова испытующе посмотрел на Григория, как видно ожидая какого-то раскаяния, благодарности, но тот упорно молчал. Тогда Якунин, нахмурясь, процедил сквозь зубы:
— Долее вас не задерживаю… пшёл вон!
И Григорий снова оказался не у дел без денег, документов. Начались его многомесячные мытарства — никто не хотел брать странного юношу без документов и рекомендаций. И возможность получения документов об окончании училища отодвигалась всё дальше и дальше — а нечего и говорить про Германию! И тогда, в полном отчаянии, он сочиняет рекомендательное письмо о своей образцовой работе в Максимовке у помещика Якунина и от его имени. И с этим «документом» прибывает в имение помещика Семиградова в Шишканах, которому нужен был помощник управляющего.
Семиградов поначалу радужно принял Григория — очень ему был нужен специалист, да ещё с рекомендацией такого уважаемого помещика. Прочитав рекомендательное письмо, он тут же взял юношу на работу, предварительно поинтересовавшись:
— Скажите, господин… э-э… Котовский, а ещё где-нибудь вы работали?
— Д-да, барин. Помощником управляющего в имении г-господина Скоковского.
— О-о, — уважительно протянул хозяин. — Да вы, я вижу, имеете большой опыт. Как раз то, что мне нужно.
В сущности, Григорий ни в чём не обманул Семиградова — никто и никогда не упрекал его в плохой работе, но новому хозяину показался странным «низкий» слог письма и некая безграмотность. Тем более, что сам помещик долгое время служил в военном ведомстве, и через его руки проходило немало писем, прошений, рекомендаций. А посему, он решил проверить и отписал Якунину и Скоковскому о Котовском.
И если Якунин тотчас ответил, что податель «рекомендательного» письма мошенник, то Скоковский, обрадовавшись («Жив, жив, сукин сын!») и одновременно огорчившись («Жив… сукин сын!»), поначалу не хотел отвечать («Как бы не тово!»), но, поразмыслив, передумал. Отписав Семиградову, что Григорий Котовский вор и мошенник, он ещё написал заявление и в полицию, где сообщал, что «мещанин Григорий Котовский, в бытность его помощником управляющего имением, незаконно присвоил 77 рублей, вырученных от продажи господских свиней».
Получив оба отзыва, Семиградов тотчас сообщил в полицию, и Григорий был арестован за подделку документа. За такой подлог он получил 4 месяца тюрьмы, ещё не предполагая, что она станет для него вторым родным домом. Но ещё была возможность избежать тюрьмы, для чего надо было внести залог в 100 рублей, которых, разумеется, у него не было. А обратиться к родным не позволила гордость.
Но сидел он среди мелконарушителей, в общей камере, да и режим был относительно свободный. Лишь тяжело было на первом свидании с любимой сестрой Соней.
— Ах, Гриша, Гриша, — горестно качая головой, причитала она, — как же так?
Григорий молча смотрел на неё, не в силах что-либо сказать, оправдаться… да разве расскажешь о всём произошедшем, о людской подлости и низости?!
— А как к-князь? — лишь спросил он. — К-князь знает… обо мне?
Соня печально посмотрела на него.
— Князь, Гриша, скончался, тому как уж с месяц. Ты давно не писал… князь сильно болел последнее время. И вот… нет больше нашего заступника.
Григорий вскинулся и дико посмотрел на сестру, так дико, что она невольно съёжилась. И тут у него внутри словно что-то оборвалось — та тонкая нить, что связывала его с тем миром. Конец… конец мечте, последней надежде!
— Т-ты, вот что, Соня… т-ты больше не приходи, н-не надо… ничего не надо.
И сразу сник, и тотчас ушёл со свидания.
Отсидев положенное и выйдя в сентябре на свободу, он не подозревал, что почти полгода, как разыскивается… полицией по жалобе помещика Скоковского. Вот уж воистину матёрая бюрократия!
Подался было к брату Николаю, который осел в Кишинёве, да понял, что напрасно. Брат, не получивший должного образования, работал обыкновенным биндюжником* у еврея Бронштейна, и его заработка едва хватало, чтобы сводить концы с концами в растущем семействе. А в жалкой комнате царила такая нищета, что впору было хозяину завыть волком.
— Вот так, брат, — развёл руками, как бы извиняясь, Николай.
Григорий с жалостью и болью смотрел на старшего брата: и волосы, рано тронутые сединой, и морщины на заросшем щетиной лице, и мозолистые руки, и глаза, унылые и безразличные — неужели всё это ждёт и его?!
Как не хотел Григорий, но пришлось ему ехать в Ганчешты, на поклон к Горскому, мужу Сони.
Горский встретил шурина весьма холодно — наслышан был о его подвигах. У него уже — положение в обществе, в доме достаток: хрусталь, дорогая мебель. Да и детишки подрастают… а тут этот, тюремщик. Потому и не пустил дальше порога, а нечего и говорить о работе!
Пришлось снова возвратиться в Кишинёв… где его вновь арестовали по жалобе Скоковского и снова осудили на четыре месяца тюрьмы, куда он и был посажен 24 декабря 1902 года (на всю жизнь запомнил он эту дату). Но на этот раз в «грабительский коридор» кишинёвского замка-тюрьмы, среди уголовников.
В общей камере — теснота и спёртый воздух, настоянный на тяжёлых запахах пота и человеческих испражнений, исходящих от стоящей в углу железной бадьи — параши.
Григорий не успел ещё занять своё место на верхних нарах, как к нему подошёл какой-то шнырь, по виду хохол, в драных портах и грязной холщёвой рубахе навыпуск.
— А що, добродий, попугай е? — спросил он.
— К-какой попугай? — не понял Григорий.
— Та гроши…
— А т-тоби чого? — в свою очередь спросил Григорий.
— Та мене не для чого, тильки треба трошки попугаев заплатити… за мисто.
— И…с-сколько попугаев?
— Та одного… трёшницу.
— И…к-кому заплатить?
— Та… добрим людям.
— Передай… цим д-добрим людям, що… ни попугаев, ни других птиц у мене нема з-зовсим.
— Зовсим? Добре.
С тем посланник и отошёл… чтобы через некоторое время вновь вернуться.
— Добродий, — снова начал он, — цих добрих людей устроит плата и натурою… чоботы, або пинжак.
Григорий, которого начала раздражать настойчивость шныря, резко ответил:
— Передай своим… д-добрым людям, чтоб шли к ч-чёртовой матери!
— Так и казать? Добре.
И он вновь отошёл с тем, чтобы снова вернуться.
— Велено казать, що если попугая нема, то и миста нема.
— И деж тогда моё м-мисто?
— А там… у Прасковьи Фёдоровны, — кивнул шнырь на парашу.
Григорий, побледнев, схватил шныря за грудки, но тут на него налетели арестанты и принялись валтузить. Как ни отмахивался остервенело Григорий, но его всё же скрутили, основательно насовав, и потащили к параше. Там с него стащили сапоги и пиджак, и, окунув несколько раз головой в вонючую жижу, бросили рядом, сказав:
— Тут твоё место… желторот.
Григорий беззвучно заплакал от перенесённого унижения и бессилия. А на следующий день он не встал, не реагируя на грубые окрики охранников. Пришлось его поместить в тюремный лазарет.
Старый опытный врач Василевич, едва осмотрев больного, коротко сказал охраннику:
— Нервная горячка. Его надобно лечить.
Григорий заболел серьёзно, и по ночам его вновь стали мучить кошмары: страшные чудовища стремились утащить его в ад, и он не мог уже сопротивляться, его железная воля была сломлена нечеловеческой силой, и он почти окончательно сдался. От осознания этого и от полного бессилия он закричал, буквально раздирая лёгкие.
— Ну, ну, юноша, — успокаивал его Василевич, готовя укол и кивая санитарам, чтобы держали мечущегося на кровати больного. — Сей же час мы вас… успокоим, подлечим.
После укола Григорий затих, но вид его был настолько жалок, что даже видавший всякое Василевич, которого, казалось, уже ничем не проймёшь, решил его оставить в лазарете как можно дольше. Мало того, когда, после полумесяца лечения, Григорий был возвращён в камеру, доктор написал следователю записку, где советовал, по причине тяжёлого заболевания, освободить досрочно заключённого Котовского, оставив его под надзором полиции.
Это возымело действие, и по истечении двух месяцев он был освобождён.
Григорий вышел из тюрьмы крайне озлобленным на своих мучителей, благородных и неблагородных. Его имя — опорочено, путь в приличное общество — закрыт. Выходит, его ждёт только одно в этом мире — участь старшего брата?!
За душой — ни гроша, ни кола и ни двора… да ещё поднадзорный! И хотя уже март месяц, но земля ещё не отошла от холодов… и воздух, и люди — отовсюду веет холодом.
Деваться некуда и Григорий решает идти пешком в Ганчешты.
— Гри-иша, — только и сумела выговорить сестра Елена, жалостливо глядя на исхудавшего, с безучастным взглядом брата.
Согрев воду, она стала мыть в лохане, как когда-то в далёком безоблачном детстве, Григория, периодически повторяя:
— И когда ты только поумнеешь, горе моё? Ну когда, когда ты будешь, наконец, жить как все нормальные люди?!
Григорий молчал, ведь одним только обещанием не отделаешься, а чем будет заниматься, он и сам не знал.
Найдя временный приют в отчем доме в семье сестры, вышедшей замуж за работящего молдаванина Иона Флорю, и получив немного денег, он стал искать работу, и… начались его мытарства. Из-за судимостей ему везде отказывали. Наконец, ему удалось устроиться сезонным рабочим в имении помещика Недова за пять рублей жалованья в месяц, да харчи на чёрной кухне… увы, теперь только так. И он на себе сполна прочувствовал и грубость управляющего, и наглый обсчёт, и тяжкий подённый труд. А по окончании сезонных работ, в сентябре, устроился рабочим на пивоваренном заводе Раппа в Кишинёве.
Город Григорий узнал с трудом.
Кишинёв в начале 1903 года представлял собой кипящий котёл, в котором варилось адское зелье из противоречий политических, религиозных, сословных и чёрт знает ещё каких. И под этот котёл усиленно подкладывались дрова властями, приведшие его к взрыву. И взрыв был настолько оглушительным, что испугал и самих власть предержащих.
Ещё в 1901 году здесь обосновалась подпольная типография РСДРП (б) *, печатавшая большевистскую «Искру», прямо напротив полицейского участка в скромном одноэтажном доме Леона Гольдмана, посланника Ленина. Здесь печатались ленинские работы: «Задачи русских социал-демократов», «Начало демонстраций», «Новое побоище», «Борьба с голодающими» и прочая «ересь», как считали в жандармерии*, мутящая народ. И все эти листовки, газеты и брошюры спокойно вывозила няня детей Гольдмана Корсунская под матрасиком коляски под самым носом «держиморд». И, несмотря на то, что полиция не дремала, периодически отыскивая и изымая вредную прокламацию, как в самой Бессарабии, так и далее, по всей России, саму типографию обнаружить не удавалось. Протестное движение против самодержавия медленно, но верно нарастало. Да тут ещё «Искра» перепечатала секретный приказ городского военного коменданта генерала Бекмана о применении, ежели будет таковая необходимость, оружия против демонстрантов: «Его Высокоблагородию Г-ну Ротному Командиру….ского Пехотного Полка. Отношение. Предлагаю В. В. назначить роту в 32 ряда для подавления могущих возникнуть в городе беспорядков. Находиться в ведении Г-на Полицмейстера. Выступать по приказу. Действовать решительно и ни перед чем не останавливаться. Каждому нижнему чину иметь 15 боевых патронов и одну верёвку…»
Такой средневековый деспотизм вызвал справедливое возмущение даже среди обычных граждан, а нечего и говорить про либералов.
И начальнику Охранного отделения (или, как коротко в народе называли, «Охранки») ротмистру* барону Левендалю было от чего задуматься. И думать надо было быстро, для того он и был сюда прислан министром внутренних дел Плеве.
Барон, большая умница и опытный служака, решил «перевести стрелки», разыграв еврейскую карту… по-умному, чужими руками. Евреи в Кишинёве имели большую силу, владея 2/3 промышленности, торговли, финансов, исподволь вызывая зависть и недовольство горожан других национальностей — вот та искра, из которой вспыхнет пламя (но не ваше пламя, господа большевики, не ваше!).
Квартира Левендаля в центре города на улице Александровской превратилась в своего рода штаб к подготовке… мероприятия, как скромно называл свой план сам разработчик. Особенно зачастили к нему Крушеван*, редактор местной газеты «Бессарабец», и некто Пронин, подрядчик по мощению улиц, а по совместительству лидер местных православных «патриотов», да к тому же ещё казнокрад (впрочем, как и сам Левендаль), жулик и проходимец — лучшего и нельзя желать!
Но Пронин, кроме этого, был ловок и достаточно умён (сумел построенный для королевы Сербии, урождённой Кишинёва Наталии Кешко, дом-дворец перевести в свою собственность, а ещё даже писал стихи в подражание Кольцову!), чтобы сообразить чего от него хочет ротмистр. Кроме того, ротмистр отлично знал, что евреи, сбившие цены подрядов на городские работы, лишили Пронина возможности роста его богатства, и, значит, были для него как кость в горле.
— А что, голубчик Георгий Алексеевич, — попивая чаёк из самовара, спрашивал, как бы невзначай, Левендаль, — не перевелись ещё богатыри в земле русской?
«И чего это немцу вдруг вспомнились русские богатыри?» — насторожился Пронин, но вслух сказал:
— Как есть не перевелись, ваше высокоблагородие. И дух русский, даже здесь, в Бессарабии, крепок… то есть силён.
— А вам не кажется, милейший, — продолжал, приторно улыбаясь, ротмистр, — что настала пора проявить… мн… этот самый дух?
— Ещё как кажется, ваше высокоблагородие, — сразу подхватил Пронин, — так кажется, что… что просто сил нет никаких. Вот как кажется.
— А вам не кажется, что пришла пора защитить… мн… православие и самодержавие от… от иноверцев?
— Да… да, ваше высокоблагородие, уж так пора, так пора. Да нам только сигнал дай, уж мы… мы постоим за веру и царя-батюшку!
— Будет вам сигнал, голубчик, будет… читаете «Бессарабец»? — неожиданно спросил Левендаль.
— Да-а… то есть, никак нет. Но уж ежели надо — будем читать.
— Читайте, голубчик, почитывайте… внимательно почитывайте.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие, — пообещал Пронин, откланиваясь.
А через некоторое время Левендаль попивал чаёк с редактором Паволакием Крушеваном, снисходительно поглядывая на него: бородка клинышком, лихие, подкрученные по моде усы, лысый череп, не блещущий интеллектом взгляд (всего-то четыре класса образования!) — лучшего и нельзя желать!
— У вас много поклонников… и сторонников среди горожан, господин Крушеван, –польстил собеседнику жандарм.
— Да… есть немного, — заскромничал Крушеван, стараясь понять, куда клонит ротмистр, который принял его как родного и просил даже без титула обращаться.
— А будет ещё больше… и не только в Кишинёве, но и в столице, — многозначительно добавил Левендаль. — И всего-то надо лишь покончить… на страницах вашей газеты с еврейским экономическим гнётом в Кишинёве. Нужна просто серия разоблачающих статей… в коих вы бо-ольшой мастак.
Крушеван облегчённо вздохнул — только-то?! Да он практически этим и занимался.
— Можете не сомневаться, господин Левендаль, — пообещал Крушеван, — статьи будут… незамедлительно.
— А ещё, — продолжал ротмистр, — полезно было бы и слухов… определённых напечатать.
— Если будут слухи… определённые, напечатаем и слухи.
— Приятно иметь дело с умным человеком, — снова польстил собеседнику жандарм.
И Крушеван незамедлительно взялся за дело, благо сами евреи давали повод. Дело в том, что по существующим в Бессарабии законам им запрещалось проживание в сельской местности, но за взятки полицейским они проживали и вели свои дела. Им запрещалось владение землёй, но за взятки через третьих лиц, они брали у местных помещиков землю в аренду и вели свои дела. Наконец, им запрещалось пересекать границу, но за взятки они пересекали и вели с румынами торговлю. Взятки, взятки… они до того избаловали полицию, что те просто без «барашка» в руку ничего не желали делать — а евреи-то думали, что вся полиция у них в руках — дудки!
И из номера в номер пошли гулять байки про «вино из водопроводного крана в бочке, в которой находится патока, фуксин, анилин, а то и просто бузина… и вино от евреев готово», про синдикат еврейских врачей со своей инструкцией, которая «не что иное, как полный кодекс мошенничества и шарлатанства» и тому подобное. А в статьях «Книжка Янкеля Добродушного», «Трогательная дружба» и других евреям прямо предписывались все мыслимые и немыслимые пороки, а честных христиан призывали к борьбе с еврейским экономическим гнётом. И как апофеоз, перед самой Пасхой, был пущен слух, будто бы в Дубоссарах был похищен и умерщвлён евреями мальчик Миша Рыболенко, якобы во исполнение какого-то иудейского ритуала (прочитав статью, Пронин объявил своим погромщикам «боевую готовность»).
Почувствовав неладное, кишинёвский раввин Эттингер обратился в синагоге к своим прихожанам:
— Уважаемые господа евреи! Кто знает, что случается с человеком, когда он уходит из этой жизни? А я вам отвечу: Бог. Один он может это знать. Так пусть он увидит, пусть услышит, как волнуется его народ. Пусть узнает, что мы нуждаемся в его защите во имя продолжения нашего народа, созданного когда-то Его могучей силой.
— Равви, — почтительно сказал кто-то из прихожан, — мы теперь ночи спать не будем. Скажи же, скажи, что тебя так волнует?
— Я сейчас, сейчас расскажу вам то, что от нас скрывают, чего мы не знаем… так узнайте же!
И он рассказал о своей тревоге по поводу антисемитских публикаций в «Бессарабце», о якобы ритуальном убийстве евреями русского мальчика. Решено было послать делегацию во главе с раввином к генерал-губернатору фон Раабену*.
Генерал-лейтенант Рудольф Самойлович фон Раабен (между прочим, сам наполовину немецкий еврей!) был человеком отменной храбрости (Георгиевский кавалер, кавалер Ордена Белого Орла), честности, неподкупности и… легкомыслия, практически все дела свалив на вице-губернатора Устругова, который считал евреев «неизлечимой язвой». Сам же он занимался охотой, картишками и, будучи одиноким, дамами, особенно одной «жёлтой дамой», как называли обыватели его «тайную» страсть, родственницей полицмейстера* Ханженкова, его личного протеже.
Губернатор, лысый, с окладистой бородой, в пенсне с золотой оправой, из-под которого тепло смотрели умные тёмно-карие глаза, по-отечески ласково принял делегацию, добродушно выслушав тревоги мирных евреев и тут же их успокоив, заявив, что не допустит никаких беспорядков… при этом совершенно ничего не предприняв.
А котёл продолжал кипеть… да уже клокотать!
Перед самой Пасхой поползли слухи, что в питейных заведениях читается царский указ, повелевающий в праздник «бить жидов» — и это напечатал Крушеван (Пронин объявил своим громилам «полную боевую готовность»).
Да ещё случилось одно странное событие, повлиявшее, косвенно, даже на будущее многострадальной России. Из аптеки богатого и уважаемого провизора Эммануила Якира в больницу поступила с сильными ожогами прислуга, русская девушка, которая, промучившись сутки, умерла в страшных мучениях. И тут же пополз слух, будто бы это старый развратник Якир, не добившись нужного своими грязными приставаниями, облил бедную девушку керосином и поджёг… всё, котёл взорвался!
Левендаль, подстраховывая себя, четвёртого апреля направил Ханженкову рапорт о возможности беспорядков… благополучно легший под сукно.
В Светлое Христово воскресение, шестого апреля, началась «проба сил»: выкрикивая антисемитские лозунги, громилы Пронина прошли центральными улицами, избивая встречных евреев (то есть, переводя на общепонятный язык статьи Крушевана), с тем, чтобы на следующий день развернуться во всю ширь своей славянской души. Утром начался разгром лавок и питейных заведений, принадлежащих евреям. С ломами, цепями, дубинами орущая и до крайности возбуждённая дармовым вином толпа громила, грабила, убивала. Пронин собрал до полусотни «патриотов», к которым постепенно присоединялись всё новые и новые, малыми группами растекавшиеся по всему городу.
Семейству Якира повезло: начальник музкоманды Чернецкий организовал охрану части улицы Харлампиевской, где проживал с семейством провизор. Туда громилы не посмели сунуться, но семилетний сын провизора Иона с диким ужасом видел в окно, как вламываются в дома, бьют окна и самих пойманных евреев озверевшие погромщики, как страшно, нечеловечески воют жертвы!
— Попался, жидёныш! — радостно кричал какой-то белёсый рабочий, прижав к стене дома испуганного бородатого еврея.
— Га-га-га! — радостно гоготала толпа, плотно окружив жертву.
— Господа… господа, — растерянно бормотал еврей, — господа…
— Да слухаем тебя… господин одноглазый, — поощрил его белёсый.
— Га-га-га!
— Господа, господа… пощадите.
— Не бойсь, не тронем, — успокоил его белёсый. — Живи, жидёныш… токмо мы думаем: раз у тебя одного глаза нет, то ить другой-то ни к чему. У кажного человека два глаза, а у тебя — один. Непорядок. Пущай и у тебя будет пара.
И он гирькой, которую раскачивал на цепочке, резко въехал в глаз несчастному. Старик взвыл, схватился за лицо и, размазывая кровь и слизь выбитого глаза, стал с диким воем оседать.
— Га-га-га! — весело рассмеялась толпа и двинулась дальше по улице.
Потрясённый таким жутким зрелищем Иона рухнул на пол, забился в истерике, напугав изрядно родителей. Быть может, такое кровавое зрелище, такой дикий разгул насилия повлиял на неокрепшую детскую душу. Быть может, именно тогда еврейский мальчик Иона понял, что насилие можно остановить только ещё большим насилием — без всякой жалости к жертве. И, быть может, именно тогда он принял, подспудно, решение стать военным… и через много лет он стал одним из самых жестоких и безжалостных красных командиров в Гражданской братоубийственной войне, вместе со своим подчинённым и земляком-бессарабцем (вот она, судьба!) Григорием Котовским.
И вот именно эти результаты весеннего погрома (было повреждено более трети зданий города, разгромлены все синагоги!) и увидел прибывший в Кишинёв Григорий, узнав от брата и жителей подробности.
Старый город находился в беспокойстве: там и сям бродили испуганные люди, да тенями двигались с отрешёнными лицами евреи. Было тихо, не звонила ни одна колокольня, и над всем Кишинёвом висела тихая грусть. И у Григория вдруг возникло чувство, что воздух, сотканный из страха и беспричинной ненависти, может в любой момент взорваться, доконав падший город. Но из всего этого Григорий для себя сделал вывод: любого еврея можно безнаказанно обидеть.
У Раппа Григорий проработал недолго, подвернулась более подходящая должность — лесного объездчика у помещика Авербуха в Малештах.
Чистый лесной воздух с запахами прелой осенней листвы, неистовое буйство красок увядающей природы, пламенеющие в лучах заката кодры — чего же более для возрождения изверившейся души?!
Объезжая верхом обширные помещичьи лесные угодья, Григорий чувствовал, как постепенно оттаивает сердце, как один только вид мирных существований, простых и ясных, наполняет душу жаждой жизни, отгоняя прочь привычные страхи и сомнения.
Гонять робких молдаван, забирающихся в господский лес для «бесплатного» решения своих житейских нужд, дело нехитрое. И Григорий, в буквальном смысле не слезавший с седла, был вездесущ. И вскоре почти не осталось желающих поживиться господским добром, и помещик не нарадовался на нового объездчика. И тем неожиданнее стал его арест.
Управляющий как-то доложил хозяину, что в его лесу исчезла целая поляна граба и бука. Привлечённый к ответу Григорий не смог внятно объяснить откуда взялась такая порубь. Авербух навёл по нему справки, тогда и выяснилось его тюремное прошлое. Недолго думая, помещик написал заявление в полицию, обвинив в краже в его лесных угодьях своего объездчика.
Однако следователь не нашёл прямых доказательств его вины… но отправил в тюрьму на два месяца.
— За что, господин с-следователь? — упавшим голосом спросил Григорий.
— Вы поднадзорный, господин Котовский. Понимаете? Под над-зо-ром, — подняв вверх указательный палец, произнёс по слогам следователь. — Вас выпустили из тюрьмы до срока с тем, чтобы вы одумались… а вы что ж, снова за старое? Придётся вам, уж не обессудьте, досидеть эти самые… э-э… недосиженные два месяца. Да-с.
И вот снова кишинёвская тюрьма, снова «грабительский коридор», но Григорий уже не выглядел мальчиком для битья. Ему как-то попалась брошюра какого-то барона Кистера, где в доступной форме описывались приёмы борьбы и незнакомого для Григория вида спорта — бокса. Бокс его так увлёк, что он стал ежедневно практиковаться: молотил воображаемого соперника или раздавал зуботычины попавшимся на краже леса молдаванам, не переставая при этом закалять себя, свой организм. Поэтому подвалившихся было к нему в камере с «интересными» предложениями арестантов он так отделал, что сразу заслужил уважение в уголовном мире — Котовский уже не желторот!
Как-то на прогулке, во внутреннем дворе тюрьмы, к нему подошёл один из арестантов.
«Так себе… плюгавый», — сразу оценил его осторожный теперь уже Григорий.
— Господин Котовский… если не ошибаюсь? — вежливо спросил арестант.
— Он с-самый, — также вежливо ответил Григорий. — С кем имею ч-честь?
— Дорончан… Самуил Дорончан.
В кишинёвской тюрьме был ещё и «политический коридор», где отбывали срок политзаключённые. И в Дорончане Григорий сразу определил этого… политического.
— Ч-чему обязан? — всё так же вежливо спросил Григорий.
— Давайте отойдём в сторонку… разговор есть.
— А вы храбрый человек, — осторожно польстил «в сторонке» Дорончан. — Наслышаны, наслышаны… как вы этих уголовников.
— Не люблю н-наглых…
— И несправедливых, — докончил за него Дорончан.
— Д-да… и несправедливых, — согласился Григорий.
— Так ведь и мы, ежели угодно-с, тоже против несправедливости.
— А к-кто это мы?
— Анархисты*…мы считаем, что мир устроен несправедливо. Одним всё можно, им подавай все блага жизни, а другим что? Кукиш! Одни обречены властвовать, богатеть, а другие бедствовать… несправедливо, ведь так-с?
— Т-так, — согласился Григорий, силясь понять куда клонит политический.
— А раз так, то мы и хотим, чтобы тот, кто был ничем, стал бы полновластным хозяином всего…
— А к-как, как это сделать? — живо заинтересовался Григорий.
— А просто, — охотно делился партийными секретами Дорончан. — Честно делиться благами с народом, а если не захотят-с… богатеи — отобрать силой в пользу бедных.
— И к-каким же образом? — засомневался Григорий. — Кто ж добровольно отдаст н-нажитое? Опять же, на стороне б-богатых сила, а у народа что — д-дубина?
— Да, — согласился политический, — дубина. А ежели народ убедить, чтобы ахнул этой дубиной? О-о, этим, во дворцах, уверяю вас, небо с овчинку тогда-с покажется! А убедим мы, анархисты… я вам, Григорий, — незаметно перешёл на доверительный тон политический, — откровенно скажу: чтобы достичь такого результата, нужны всего, как сказал Фридрих Великий, три вещи — деньги, деньги и ещё раз деньги.
— Д-деньги на что?
— На революцию, Григорий, на вооружённое восстание против угнетателей, которые понимают только язык силы… да ведь и вас, уж извините-с, эти богатеи сделали изгоем.
В самую точку попал Дорончан! Глаза Григория потемнели, сузились, и анархист поспешил закрепить успех:
— Потому мы, анархисты, и аннексируем… э-э… экспроприируем… ну, то есть, конфискуем-с награбленное у народа. И нам нужны в боевые бригады такие отважные храбрецы, как вы, Григорий.
Не раз и не два беседовал на прогулках Дорончан с Григорием, мягко убеждая того примкнуть к анархистам после освобождения… и в конце концов убедил! Договорились, что Григорий, выйдя из тюрьмы, будет ждать: устроится на работу, будет жить обычной жизнью, а Дорончан его найдёт.
— У них ведь, — успокаивал Григория политический, — на меня ничего нет-с. Так… одни подозрения, которые к делу не пришьёшь. А если у вас не получится… с работой, так я вам один адресочек одесский шепну.
Да Григорий уже и не хотел никуда устраиваться — всё ему выходило боком.
А тут ещё, выйдя в феврале из тюрьмы и побывав у сестры Елены в Ганчештах, он получил повестку, обязывающую его явиться на призывной пункт в Балты. Дело в том, что в январе началась русско-японская война — мобилизация! Но Григорий, основательно обработанный Дорончаном, считал любую войну, как и все либералы, несправедливой… потому и, мысленно показывая властям кукиш, совсем не собирался ехать в Балты. Напротив, чтобы спрятаться от мобилизации, подался в Одессу по «нашёптанному» Дорончаном адресу.
Глава пятая
В управлении полиции Кишинёва — переполох. Новый губернатор князь Урусов, высочайше назначенный разгрести весь «мусор», оставшийся после погрома, сразу рьяно взялся за дело и тут же прослыл юдофилом. Его интересовали все структуры власти, а более того — полиция. Сняв Ханженкова, он поставил полицмейстером полковника Рейхарта, опытного служаку, бывшего полицмейстером в Риге, который круто принялся наводить порядок. Но ему надо было спешить, потому как губернатор разрешил евреям (изрядно напугав этим самым Рейхарта) похоронить осквернённые в результате погрома свитки священной Торы*, в связи с чем ожидалось многочисленное еврейское шествие к кладбищу.
Сидя у себя в кабинете, полковник, крупный, с шикарными бакенбардами («А взгляд-то, взгляд — мамоньки! — шушукались по углам чиновники. — Как есть убийственный! Так и гвоздит, так и гвоздит!») казистый мужчина, внимательно знакомился с личными делами частных приставов*, изредка бормотал:
— Та-ак… так-с, так-с… Розенберг, коллежский советник*…с первой части… о-о, да ты у нас, братец, прямо герой — мзду, как видно, не берёшь. Отменно… мы тебя оставляем… та-ак-с, кто у нас тут следующий? Та-ак-с… пристав второй части Соловкин, титулярный советник*…хм-м… ага… да ты, братец, наглец — в шею! И помощник твой наглец — в шею! А на твое место назначим… Хаджи-Коли, благорасполагает к себе, да и послужной список отменный. А заместителем его… та-ак, посмотрим рекомендации кишинёвского исправника… ага, Чеманский… гм… недурственно, недурственно… ого! Такой молодой, а уже столько раскрыл… пожалуй, вполне в помощники годится. Та-ак-с… третий участок… Лучинский, коллежский асессор*…гм… берёшь мзду-то, в меру однако, а помощник твой уж совсем… что ж, подумаем насчёт тебя, но помощника твоего — в шею, чтобы понял.
Закончив с приставами (из пяти оставил четверых), полковник принялся за прошения, переадресованные ему губернатором. Одно из них заинтересовало: «Почтительнейше прошу Ваше превосходительство удостоить моё долговременное ожидание должности Вашим милостивейшим и высоким вниманием, и устроить моё благосостояние если не должностью столоначальника, то назначением меня надзирателем или становым приставом. Служба таковых должностей вполне мне известна и при этом я имею достаточный дар выполнять должное и по совести, и по закону».
И слог, и текст прошения чрезвычайно понравились полицмейстеру, а приложенные документы, после беглого просмотра, убедили. И он начертал наискось резолюцию: «Принять г. Зильберга на должность помощника пристава третьей части».
«Зильберг — из военных, уж он-то порядок и дисциплину знает», — ставя резолюцию, убеждал себя полковник.
И вскоре перед приставом третьей части предстал новоиспечённый заместитель.
Оглядывая бравого высокого офицера, Лучинский, сам невзрачный и тщедушный, удовлетворённо жмурился — вполне подходящий заместитель! Он просто обратил, в отличие от Рейхарта, внимание на одну черту биографии Зильберга: увольнение из полка за «нарушение правил чести» — так чего же лучше, господа?! Потому только и сказал:
— Ну-с, господин Зильберг, милости просим в нашу часть.
В свою очередь назначенный полицмейстером пристав второй части, сухопарый, с умными и цепкими глазами грек Хаджи-Коли, внимательно слушал своего заместителя:
— Ваше благородие! Честь имею представиться: Пётр Сергеев Чеманский! Назначен…
— О том мне известно, юноша, — перебил его пристав.
Как-то не показался ему Чеманский: и мундир мешковат, и возраст слишком юн, и выправки нет… словом, не того он ожидал, не того. Однако документы, с которыми успел ознакомиться пристав, говорили о другом: несмотря на молодость, этот Чеманский успел так отличиться, что был рекомендован уездным исправником* на досрочное повышение в чине. И ведь как себя показал… отменно показал, чёрт побери!
Хаджи-Коли и верил, и не верил.
«Ладно, проверим в деле», — решил он.
— Ваше благородие… — снова начал Чеманский, но пристав снова его прервал:
— Зовите меня по имени-отчеству: Константин Георгиевич. Чинопочитание здесь ни к чему, оно только во вред делу, оно только разделяет. А ежели по имени, то наоборот — сближает, а это — важно. Всё понятно… Пётр Сергеевич?
— Так точно ваше… Константин Георгиевич.
— Вот и славно. А теперь… теперь займёмся нашими делами, коих скопилось ой как много!
Первейшей задачей пристав считал налаживание агентурной сети, почти утерянной после погромов.
— Нам с вами, Пётр Сергеевич, — внушал своему заместителю начальник, — предстоит долгий, утомительный путь созидания. Легко потерять — трудно вновь приобрести.
Чеманский, внимательно слушая пристава, вдруг нашёл общее между ними — азарт. Ведь именно он подвѝг его, выходца из небогатой семьи городского цехового мастера, пойти служить в полицию сразу после окончания реального училища — а как ещё можно чего-то достичь в его положении?!
Такое решение повергло родню буквально в шок.
— Сынок… сынок… — повторял поражённый таким решением сына отец. — Чего ж ты… эта… сразу в полицию? Эта… как его… я ж тебя хотел к себе. Да не хошь ко мне, давай к дяде твому… в лавку. Он уж спрашивал у меня, говорил… эта… смышлёный парень у тебя… дескать, такой ему и нужен. А?
— Да не могу я и не хочу в лавке торчать, отец! — возмущался Пётр. — Как… как в неволе!
— Эка загнул — неволя! А фараоном* стать, — отец вдруг заговорил на блатном жаргоне, — эта… как его… воля?! Да они ж там все… эта… мздоимцы, а ну как и ты таким же станешь?!
— Очень вы обидные слова говорите, папаша, — обиделся сын. — Что ж там — все воры? Что ж там, по-вашему, нет честных?
— Оно может и есть, да… эта… только всё одно… э-э, да что с тобой тут говорить! Очинно ты меня огорчил, сынок.
Но Пётр оказался настойчивым, ему даже пришлось уйти от родителей и, снимая жалкую комнатушку на окраине, он стал служить в полиции кишинёвского уезда в должности помощника урядника первого стана первого участка. Его начальник, урядник* Евфимий Кесслер, старый служака из немцев-колонистов, сразу загрузил работой молодого помощника, одновременно его поучая:
— В нашей работе, Пётр, нам надобно, допрежь всего, охранять спокойствие в обчестве. И, стало быть, особливо следить за проявлениями всяческих толков и действий, которые могут быть направлены супротив порядка и, не приведи господи, супротив власти. Уразумел?
— Так точно, уразумел, господин урядник! — звонко отвечал Пётр.
— Да помимо того, — продолжал Кесслер, — за нами ещё и догляд за… за… ну, за тем, чтоб пожаров не было. Да ещё за… ох ты, господи, слово-то какое мудрёное, всё забываю… э-э… за са-ни-та-рией — вот. Чтоб, значит, не было бы, не приведи господи, мора какого… понял?
— Так точно!
— Да ещё… протокол там какой составить, али следствие провести — уж это само собой. Да помни: я сам взяток, не приведи господи, не беру и другим не дозволяю, усёк?
— Так точно!
Урядник внимательно оглядел крепкую фигуру помощника, удовлетворённо крякнул.
— Ты, я вижу, сынок, тово… силушкой не обижен. Это хорошо.
— Да, — скромно признался Пётр. — Гимнастикой ежедневно занимаюсь, господин урядник.
— Народец наш законов не знает, а вот силушку-то, прости господи, крепко ценит… ну, служи, Пётр Чеманский.
Как ни странно, но к гимнастике Петра невольно приучил… Котовский, когда его как следует вздул в училище. С той поры Пётр положил себе ежедневно заниматься физическими упражнениями, особенно когда надумал пойти служить в полицию.
Едва начав служить, Чеманский сразу отличился.
На окраине Кишинёва, где он поселился, в основном проживали бедные евреи. В их обшарпанных жилищах царила такая нищета, теснота и грязь, что даже ему, выходцу из небогатой семьи, не приходилось раньше видеть такого. Нищета «вопила»…в прямом смысле этого слова: многочисленные замызганные чада исторгали бесконечный плач, требуя еды, вызывая… ругань родителей, ругань бессилия. Да, помимо того, сквозь постоянно открытые окна виднелась вся жалкая обстановка, как бы показывая прохожим: вот, смотрите, брать нечего.
Мелкие сапожники, жестянщики, мусорщики, торговцы, водовозы — вот основное население этого жалкого и убогого места. Здесь время, невольно заметил Пётр, как будто бы остановилось, и местные обитатели воспринимали солнце, вонючую речку-лужу Бык, истощённую землю лишь как источник своего жалкого существования. И взоры, обращённые временами к солнцу, лишь умоляли: ну задержись ещё на часок, ну дай мне ещё немного поработать на хлеб для постоянно голодных детей!
Так жил и сосед Петра — Хамудис, развозивший на своей клячонке воду для городских нужд.
Однажды летом, когда утренняя серость постепенно разжижалась поднимающимся из-за горизонта солнцем, вдруг разом эта самая серость вспыхнула, осветилась, наполнилась криками — загорелся дом Хамудиса.
Пётр, едва продрав глаза, кинулся на улицу. Там уже занимался, всё ярче и ярче, соседский дом, а рядом, причитая и бестолково суетясь, бесцельно бегали люди.
Сразу оценив ситуацию, он подскочил к хозяйской бочке и откинул крышку — бочка была полна воды!
Пётр зычно закричал:
— А ну, слушай меня! Бери вёдра, бадьи! Становись в цепь! Заливай огонь!
Бесцельно мечущиеся евреи остановились и, похватав вёдра, бачки, лохани, стали в цепь от бочки к дому. Но тут послышался детский плач из охваченного пламенем дома. И тут же жуткий женский вопль:
— Ёсиф, Ёсиф… мой Ёсиф!! Там… там!!
Бросив ведро, Пётр скомандовал:
— А ну — лей!
Его окатили с двух сторон водой, и он бросился в огонь к полному изумлению евреев.
Спотыкаясь, падая и задыхаясь от дыма, он пробрался на голос ребёнка, схватил его в охапку и, практически на ощупь, выбрался из горящего дома, передав мальчика обрадованной матери.
Ребёнок — целёхонек, только напуган, да надышался дымом. А сам Пётр, не переставая кашлять, тут же встал в цепь. Потушив, до приезда пожарной команды, дом, евреи наперебой стали благодарить спасителя, который искренне не понимал — это же его работа!
Но дело это дошло до раввина Эттингера, который лично обратился с просьбой к губернатору фон Раабену о награждении отважного полицейского.
Пётр был вызван в управление полиции, где полицмейстер Ханженков объявил ему благодарность и выдал, с разрешения губернатора (!), серебряный рубль.
Эта была его первая в жизни награда, которую он хранил всю свою жизнь.
Пётр был замечен начальством, стал известен (попал в заметку в газете «Бессарабские губернские ведомости»), а нечего говорить про урядника — тот сразу стал ему больше доверять, сначала дела помельче, для набирания опыта, а потом и покрупней.
Так, Пётр выследил и арестовал целую шайку «куроцапов» — подростков, промышляющих кражей кур. А то ещё: раскрыл убийство Мани Гейзер.
Проживавшие на окраине города евреи почему-то о всех происшествиях спешили доложить Чеманскому. Напрасно он убеждал их, что эти происшествия — в ведении городской полиции, а он служит в уездной. Евреи согласно кивали головой… и снова, как сорока на хвосте, несли ему вести. Вот и о смерти еврейской девушки он узнал первым и первым прибыл на место происшествия, наказав вызвать всё же следователя из городского управления.
Совсем ещё юная особа лежала возле канавы на окраине «окраины», откинув левую руку и судорожно сжимая горло правой. Потрогав тело, Пётр почувствовал уходящее те-пло — значит, умерла совсем недавно. Было около четырёх часов пополудни.
«Так умерла… или помогли умереть?» — подумал Пётр.
В этот ведреный октябрьский день, когда ещё солнце вовсю светило, наводя позолоту на увядающую листву деревьев, радующую глаз, когда пронизанный лучами воздух изумительно чист и прозрачен… и вдруг — смерть!
Но Пётр уже тогда отличался рациональным мышлением, поэтому, окинув взглядом место происшествия, он принялся внимательно его осматривать.
Вблизи лежащей девушки оказался пустой флакон. Осторожно, в перчатках, подняв его, Пётр прочитал: «Карболовая кислота». Внизу — сигнатурная отметка аптеки Перельмутера.
«Наверное, отравилась», — подумал, глядя на несчастную, Пётр.
Осторожно, но тщательно осмотрев карманы девушки, Пётр нашёл записку: «Гостиная ул. №25, шинок собственного сада, Маня Гейзер, 16 лет».
«Бог мой! — печально подумал Пётр. — Совсем ещё девочка! Как же так?»
И — никаких следов борьбы или насилия. Выходит — самоубийство?
Положив записку в карман умершей, он стал дожидаться приезда полиции.
Прибывший следователь, выслушав с недовольным лицом Чеманского, сухо его поблагодарил:
— Благодарю… коллега. Не смею вас долее задерживать. Далее уж мы сами… честь имею.
Вроде бы всё ясно… но что-то не давало Петру покоя, только не понятно что. И только когда ему попалась на глаза короткая заметка в «Бессарабских губернских ведомостях» в полицейских сводках о самоубийстве Мани Гейзер, он вдруг сразу понял что именно: выражение её лица. Совершенно безмятежное… и эта застывшая полуулыбка. Ему уже доводилось видеть самоубийц. Когда человек решает свести счёты с жизнью, он сосредоточен и… печален, а тут… не-ет, что-то не так.
И тогда он решил провести собственное расследование. И начал с аптеки Перельмутера.
Хозяин, почтенный еврей с пейсами, окладистой бородой, чистенький и аккуратненький, как его аптека, выслушав Петра, удивлённо посмотрел и недоумённо спросил:
— Я, молодой человек, имел уже беседу с… полицейским чином. И я вас хочу за это спросить: что ещё добавить к…э-э… сказанному?
— Есть некоторые обстоятельства, господин Перельмутер, — осторожно ответил Пётр, — которые хотелось бы выяснить. Потому и прошу помочь… вы ведь не против? Уж поверьте — это не праздный интерес.
Перельмутер пожал плечами и повторил всё то, о чём уже рассказывал полиции: да, он помнит эту девушку… да, она сама приходила в его аптеку за карболовой кислотой, сказав, что кислота нужна акушерке для родильницы… да, он ей лично вручил флакон, взяв честное слово, что она вручит оный непременно в руки акушерки.
Поблагодарив хозяина, Пётр направился к дому умершей.
Приличный чистенький домик в увядающем саду, словно грустившем вместе с обитателями дома по рано умершей девушке. Грусть повсюду: и в глазах родителей, и в глазах её старшей сестры, и даже во взгляде жирного кота, свернувшегося в кресле, и, как показалось Петру, сам внутренний воздух был пропитан грустью воспоминаний.
Визит Петра был неприятен родителям, немолодым благообразным евреям с невозвратной печалью во взгляде. На вопросы отвечали нехотя, очевидно думая о своём. Но из ответов родителей выходило, что они приняли версию самоубийства — но мотив, каков мотив?! А вот мотив так и остался неясен. Выходит… да ни черта не выходит!
Эта неясность буквально бесила Петра, не давала покоя. Он уже было собрался, выйдя от Гейзеров, уходить ни с чем, как вдруг краем глаза заметил, как колыхнулась занавеска в окне соседнего дома.
Сосед Гейзеров, впустив полицейского, настороженно смотрел на Петра, как будто ожидая от него какой-то каверзы. Но когда тот изложил суть визита, оживился:
— Да, да, господин полицейский, такая молодая… такое горе. Бедный, бедный Шимон… а что интересует господина полицейского?
— Мотив… мотив самоубийства не ясен. Вы что-нибудь можете сказать?
— Моисей Продлеус… это я, господин полицейский… может за это сказать, если поймёт что господину полицейскому нужно?
— Мне нужно знать круг её знакомств.
— О-о, это такой круг, такой… совсем малый круг, да, совсем малый. Но Моисей Продлеус кое-что знает об этом круге.
И он рассказал Петру, что не раз видел в городе покойную с неким Аароном Шацем, сыном «почтенного владельца скобяной лавки».
Пётр сразу почувствовал, что это может оказаться той самой нитью, за которую, если потянуть… впрочем — тьфу-тьфу!
И он принялся методично «тянуть за нить», наводить справки на этого самого Аарона Шаца. По отзывам — настоящий разгильдяй и… никудышник. А вот это уже интересно! Дальше — больше. Оказалось, что покойная Маня встречалась не раз с этим Аароном, как видно влюбилась. Опросив жителей окраины, живущих недалеко от места трагедии, описав им внешность Аарона, Пётр убедился, что он был там вместе с Маней именно в момент самоубийства. Но был, не значит, что убил… но Пётр чувствовал, что его мысли текут в верном направлении. Оставалось найти акушерку, для который якобы предназначалась карболка… и он её нашёл!
Его предположение оказалось верным — Маня (несовершеннолетняя!) была беременна. Всё встало на свои места… но прямых доказательств убийства не было! И тогда он решил сыграть на эффекте неожиданности.
В свободное от службы время он стал следить за Аароном и, застав его однажды в пивной «Богемия», подсел к нему, в упор глядя в глаза.
Аарон, черноволосый, с глазами навыкате тип, заёрзал, грубо спросил:
— Чего уставился?
— Помощник урядника Чеманский, господин Шац, — спокойно представился Пётр. — У меня к вам ряд вопросов… относительно самоубийства Мани Гейзер.
— А я тут причём? — сразу насторожился Аарон.
— Ну как же, господин Шац, ведь вы же были знакомы с Маней.
— Какая ещё Маня? Знать такую не знаю, ведать не ведаю…
— Ай, ай, ай, — попенял ему Пётр. — Как же это не знаете? А вот сосед Гейзеров, Продлеус, утверждает, что не раз вас видел вместе… с Маней Гейзер.
— Ах, с Маней… да, да, припоминаю. У меня… э-э… господин полицейский… я…э-э… вот, пользуюсь определённым успехом у женщин. Разве всех их упомнишь?
— Особенно убиенных, — услужливо подсказал Пётр.
— Почему… убиенных? Разве это… разве это не самоубийство?
— А вы почём знаете? — наивно поинтересовался Пётр.
— Ну… из газеты. Там же написано было…
— Эва как! Интересуетесь… а говорили что не знаете такую.
Видя, как сразу забегали глазки у собеседника, Пётр решил его дожать.
— А ведь это от вас, господин Шац, Маня забеременела. Это вы, именно вы, заставили её сходить к акушерке… несовершеннолетнюю. И именно вы у ней, акушерки, интересовались, как вытравить плод, именно вы посоветовали несчастной девушке купить карболку, именно вы говорили, что от небольшой дозы карболки ничего не будет, заставляя несчастную выпить отраву…
— Неправда, неправда… — слабо защищался Шац.
— И именно вас видели вместе с ней на окраине свидетели Зильберштейн и Маргулис…
— Неправда! — уже не владея собой вскричал Шац. — Неправда! Их там не было!
— Где не было? — тут же парировал Пётр. — На месте преступления?
Поняв, что проговорился, Шац сразу сник и… заплакал.
— Значит, именно так и было, — безжалостно добил своего собеседника Пётр.
И тут же, по горячим следам, заставил того написать чистосердечное признание, попросив бумагу и чернила у хозяина заведения. После чего доставил Шаца в ближайший полицейский участок.
Узнав о раскрытии «самоубийства» Мани Гейзер, Кесслер был крайне недоволен.
— Не своим делом занимаешься, Пётр, — выговаривал он своему помощнику. — А того более — поссоришь нас с городскими… а ну как помощь их понадобится, не приведи господи? Что тогда?
— Август Евфимович… э-э… Евфим Августович… — волнуясь и путаясь, начал оправдываться Пётр, — то есть, господин урядник… я ж только ради правды.
— Ты вот что, Пётр, ты заруби себе на носу: никаких самостоятельных дел и, не приведи господи, расследований. Только по моему личному указанию — уразумел? Не то вылетишь из полиции!
— Уразумел, господин урядник!
После такого серьёзного разговора Пётр даже сменил место жительства, переехав в Боюканы, предместье Кишинёва.
А тут, в ноябре, и случись убийство крестьянки Капрановой. И Пётр смог во всём блеске оценить расследование, проведённое Кесслером всего за два дня.
Когда к ним в участок обратилась соседка Капрановой, некая Суржикова, с заявлением о том, что она нашла у себя в огороде труп Капрановой, Кесслер сразу отправился на место преступления, взяв с собой и Петра.
Труп крестьянки, с перерезанным горлом, уже закоченел.
— Почему, хозяйка, труп, прости господи, оказался у вас в огороде? — допытывался Кесслер.
— Да нешто я знаю? — недоумённо пожимала плечами Суржикова. — Поутре вышла… по нужде — ан, глядь, лежить.
— А что, убиенная — вдова?
— Солдатка… одна живёть.
Кесслер велел своему помощнику осмотреть место происшествия, а сам пошёл расспрашивать соседей.
Внимательно осмотревшись, Пётр увидел следы, большие следы, уходящие к ограде, а также след, оставленный телом, и ведший тоже к ограде. Было ясно, что тело волокли от самого её дома, причём убийца (именно убийца, так как других следов не было) торопился.
«Кто-то его вспугнул… вон, даже следы не успел замести, — думал Пётр. — А сюда приволок труп наверное затем, чтобы отвести подозрения… но от кого? Кто он?»
В доме убиенной — кавардак. По всему видать — что-то искали.
Когда прибывшему Кесслеру Пётр доложил о своей версии убийства — кто-то убил из-за денег, урядник лишь усмехнулся.
— Кто-то, когда-то, кого-то… это, Пётр, даже не версия, а, прости господи, сплошные домыслы. Во-первых, начать допрежь с того, что убийц было двое.
— Как… двое? — удивился Пётр.
— А так… ты посмотрел за оградой?
— За оградой? Н-нет, господин урядник, — неуверенно ответил Пётр, чувствуя, как краска стыда заливает лицо.
— А я ведь просил: внимательно осмотри. А там, прости господи, ясно видны два следа… да ведут они в сторону леса. Стало быть, убийц надобно искать там, в Васиенском лесу. Да испросить надо разрешения у владельца, господина Огановича, на поимку преступников… этим и займёшься.
— А что, — спросил задетый за живое Пётр, — господин урядник, может, и имя убийц знает?
— Может и знаю… судя по описаниям соседей, эти двое — бродяги, стало быть, не приведи господи, дома у них своего нет. А в лесу в ноябре только в землянке можно прожить кое-как… да не на опушке, а в глубине. Там мы им облаву и устроим.
Пока Пётр получал разрешение владельца леса Огановича на поимку бродяг, урядник успел узнать имя одного из убийц: Никифор Веселовский.
— Но каким образом? — спросил поражённый Пётр. — Каким образом, господин урядник, вам удалось?
— А чего тут такого? — усмехнулся урядник. — Вот послушай, Пётр: допрежь позвонил в соседнюю волость, описал подозреваемого, там мне и сказали, что был задержан бродяга, попадающий под моё описание, да убёг куда-то. А бродяга этот из Симбирской губернии, по прозванию Никифор Веселовский. Дальше. Убиенная, Ирина Капранова, родом тож из Симбирской губернии. Сюда, не приведи господи, попала по причине замужества… а в девичестве — Веселовская, соображаешь?
— Так что ж… этот Никифор — родственник, выходит?
— Вот это и надобно нам узнать, пока, не приведи господи, ещё какого душегубства не сделалось. Собирай стражников, будем облаву делать.
Вооружившись и взяв с собою 15 стражников, Кесслер, со своим помощником, ранним утром 16 ноября направился в Васиенский лес.
Облаву начали, рассыпавшись цепью, с того места, где обрывались следы. В лесу — стыло и влажно, так что дрожь пробирала, но мягкая подушка из прелых листьев скрадывала шум от осторожной ходьбы.
Шли, крадучись, довольно долго, не теряя из виду друг друга, и, когда Петру показалось, что потянуло дымком, вдруг послышался свисток. И тут же — голос урядника, приказывающий идти к нему.
На небольшой поляне Пётр увидел землянку и двух связанных оборванцев, рядом — победно ухмыляющийся урядник.
На допросе Никифор начал было отнекиваться от всего, тогда Кесслер нажал на его товарища, назвавшегося Никитой Пантелеевым. Да ещё нашёл в землянке нож с запёкшейся кровью, да соседи опознали в них тех самых бродяг, что не раз бывали у убиенной в доме, да следы крови на их драной одежде… да много других улик, под давлением которых сначала раскололся Никита, а затем сознался в убийстве и Никифор. После чего их обоих Кесслер препроводил к судебному следователю четвёртого участка, где и выяснились обстоятельства убийства.
По рассказу Никифора выходило, что он являлся дальним родственником Капрановой, волею судьбы (это потом следователь выяснил, что «воля судьбы» — убийство дяди) стал бродягой. Да попав в Бессарабию, сумел отыскать родственницу Ирину, давшую ему и его случайному попутчику временный приют из жалости. Да вот незадача: во время распития ляпнул Никифор про убийство дяди, и Ирина, испугавшись, стала их выгонять, грозясь сдать в полицию. Тогда, боясь, что она всё равно заявит в полицию, Никифор просто перерезал ей горло и, угрожая ножом, заставил Никиту помогать ему, имитировав кражу, хотя красть-то было нечего.
Этот случай быстрого раскрытия убийства попал в газету, и Кесслер сразу стал знаменит.
— Вот так, — поучал он Петра, — надобно раскрывать убийства: не торопясь, основательно. И не приведи тебя господи, Пётр, делать сразу глупые выводы. Перво-наперво — тщательный сбор улик, потом — опрос свидетелей. Да всё надо по горячим следам. Никогда не откладывай на потом дело — сразу в оборот. Уразумел?
Крепко, навсегда запомнил Пётр уроки урядника, которые помогли ему в раскрытии одного громкого убийства, ставшего для него отправной точкой в карьере.
В феврале 1903 года, за два месяца до кишинёвского погрома, в Дубоссарах исчез мальчик — Миша Рыболенко, четырнадцати лет от роду. Встревоженные родители заявили в полицию. Там поначалу им попеняли, что, дескать, в бродяги подался, «али ишо куды… дело-то молодое», но вскоре случайно был найден в лесу его труп, весь исколотый. Так как полиция палец о палец не ударила по раскрытию этого преступления, по городу поползли слухи, что де, труп был найден в лесу с зашитыми глазами, ушами, ртом, надрезами на венах, сухожилиях и верёвкой на шее. Эти слухи охотно подхватил Крушеван в своём «Бессарабце», обсуждая ритуальную подоплеку убийства: он предположил, что подросток был похищен и обескровлен евреями с целью использования его крови в каком-то ритуале. Более того, развивая тему, он написал, что якобы один из убийц-евреев уже пойман и даёт показания.
В Дубоссарах начались волнения среди жителей, готовые перерасти в еврейские погромы. И только тогда власть спохватилась. Кишинёвский исправник лично приказал направить в Дубоссары для скорого расследования убийства (дабы не было волнений) Кесслера с помощником.
По прибытию в Дубоссары, Кесслер с Петром, остановившись в постоялом дворе, сразу же взялись за дело.
Дубоссары — совершенно заштатный городок, обычный торговый пункт на берегу Днестра, с малым населением, где все про всех знают. Пока Кесслер опрашивал родственников, Пётр направился к месту убийства, точнее, к месту, где был найден труп подростка, а также в морг.
В морге, мрачном полуподвальном помещении, — кладбищенская тишина, настоянная на остром запахе тления, спирта («А ѝначе ить никак нельзя — задохнисси», — равнодушно сказал сторож, от которого несло этим самым спиртом) и… страхах живых.
— А ты что ж, братец, не боишься тут один… ночами? — продолжал допытываться Пётр.
— А чаво их, мертвяков то ись, бояться? — также равнодушно ответил сторож. — Так… обычные люди, токмо уснувшие.
Пётр, поражённый такой жизненной философией, снова спросил:
— Ну а там… разные болезни какие если подхватишь? Не боишься?
— А чаво бояться? Вот вы, господин хороший, вижу, брезгаете, а ить я могу здеся и откушать. Одно скажу: лучше уж с мертвяками, нежли с людьми. Мертвяки — народ спокойный, тихий… ни те подлости, али какого другого лиха. Лежать себе и лежать, покеда в землю не зароють. Я ить с ними и поговорить могу, и песню какую спеть… обматерить, ежли что… всяко быват. А с живыми? И-и, милок, не приведи господи! И в рыло заедуть, и обматерять… всяк норовит показать, что ты никто. А здеся я хозяин! Всё знаю про кажного мертвяка. Вот и про Мишку, убиенного то ись, я тебе так скажу: никаких таких швов, али надрезов на ём не было… искололи парня, как есть всего искололи.
Слова сторожа подтвердил прибывший доктор, показавший ему труп мальца (пока показывал, тыкая в разные части тела, Пётр с трудом сдерживал позывы) и предоставивший Петру результаты вскрытия: подросток погиб от множественных колотых ран, а не от кровопотери, а того более — никаких надрезов, швов на глазах, на губах.
— Всё это, Пётр Сергеевич, — подытожил доктор, — не более, чем домыслы. Мальчик был убит, причём убит жестоко и бессмысленно — сорок колотых ранений!
— Э-э, не скажите, — не согласился Пётр, — какой-то в этом был скрытый смысл… но какой?
— Ну, это уж по вашей части, а я, с вашего позволения, откланяюсь. У нас, знаете ли, всего три врача на весь город.
Осмотрев в лесу место, где был найден труп мальчика, Пётр определил, что его сюда принесли и бросили. Но бросили как-то странно: не зарыли, (хотя бы в снег), не забросали ветками… да ещё совсем недалеко от дороги. Убийца (или убийцы?) явно хотел, чтобы труп нашли… но зачем?! Ведь если это сделали евреи, тогда бы и труп надёжно спрятали… а тут?!
Разгребая на всякий случай снег сапогом, Пётр неожиданно увидел овчинную рукавицу. Подняв и внимательно осмотрев её, он заметил пятнышко крови… выходит, убийца обронил?
Доложив о результатах осмотра Кесслеру и о своих соображениях, Пётр поинтересовался результатами опроса родственников. Урядник лишь досадливо махнул рукой.
— Ладят одно: это евреи сделали, прости господи, это ритуал у них такой, ищите среди них убийцу… попробуй отыщи!
— Но… но если это сделали евреи, хотя это полная чушь, тогда… тогда жди погрома.
— Вот-вот, Пётр. Тут может такое начаться, что не приведи господи!
Попросив урядника поподробнее рассказать о расспросах родни, Пётр обратил внимание, что не был опрошен дедушка убиенного.
— Да заболел он сразу, когда узнал… ну, об убийстве внука, прости господи. Вот и навести его, Пётр, да расспроси. Может, чего и расскажет, — как-то безнадёжно сказал Кесслер.
Дом Мишиного деда на Балтской улице — каменный, под железной крышей. Сразу видно, что обладатель его человек зажиточный. Так и оказалось — дед занимался торговлей лесом, а фамилия его была другая — Тимощук.
— Мишаня-то… упокойный, царствие ему небесное, сынок дочки моей, Прасковьи, — пояснил Петру Тимощук, принявший его, лёжа в кровати.
Его, ещё не совсем старого мужика, явно надломило известие о зверском убийстве внука. Но рассказать всё, что знал о внуке, он, нехотя, всё же согласился.
Торопливо записывая показания в записную книжку (Кесслер приучил), Пётр вдруг насторожился.
— Как вы сказали, господин Тимощук? — перебил он деда. — Наследство?
— Ну да… наследство. Я и говорю: сын-то мой старший, Трофим, тово… пьяница, да бездельник. Все кабаки здешние обсидел, чтоб ему! Уж и чего только с ним не делал: и грозил, и увещевал… всё понапрасну! Не в меня он, нету в ём моей жилки. Всё в кабаке спустит, когда умру. Я уж пригрозил, что отпишу всё нажитое внуку, думал, что одумается — куды там! Пропащий человек!
Старик замолчал, потом тяжко вздохнул.
— Нету теперь моего Мишани, некому дело будет передать… э-эх, жизнь!
— А вы… вы что же, на евреев думаете? — осторожно спросил Пётр.
— А то на кого ж? Вона как с Мишаней, всего искололи… я как подумаю, как мучилось невинное дитя… своими руками бы задушил!
Но Пётр, обдумывая сказанное стариком, всё более и более склонялся к другой версии, а потому и решил проверить.
Для начала посетил все винные и пивные ларьки, каковых оказалось всего семь, и везде ему хозяева говорили одно и то же, что, мол, много тут разных шляется, бывает и Трофим. Пропустит стаканчик-другой и… всё. Ничего такого.
Оставались ещё кабаки, коих было всего два.
В кабаках всегда царил особый дух, дух питейного братства, настоянный на жгучем несчастье завсегдатаев и всеубивающей лени.
В первом, хозяин, лениво зевая и поминутно крестя рот (дабы дьявол не залетел), ничего нового не сообщил. Зато во втором…
— Я, вашбродь, энтово Трофима очинно хорошо знаю, — доверительно говорил, смешно выкатывая глаза, хозяин: борода лопатой, посреди слипшихся сальных волос пробор, пёстрая косоворотка и непременная, через жилетку, цепочка с часами… словом, типичный кабатчик. — Почитай, кажинный день они сидят и пьють…
— Вы сказали — они? Это сколько же их? — перебил Пётр.
— Так ить… двое: сам и собутыльник его, Тищенко Никифор. Вдругорядь, аккурат посля Рождества, они напились дюже, и Трофим шипко шумел… всё грозился кого-то убить.
Петра, от предчувствия удачи, аж осыпало ознобом.
— Ну, ну, — поощрил он кабатчика, — и кого же… убить грозился?
— Вот тут, вашбродь, отвлёкся я… не расслышал. Так ить Никифор знать должон, он всё его успокаивал. Вы у Никифора-то и поантересуйтесь.
Пётр стал быстро наводить справки по обоим. Оказалось, что Трофим работает в отцовской конторе приказчиком, а Никифор вроде его помощника, всё больше на побегушках — так себе, ничтожный человечек.
«Вот с него и начнём», — решил Пётр.
Добившись у Кесслера права на обыск в доме Тищенко, Пётр рисковал — а вдруг рукавица не его? Вдруг ничего не найдёт? Вон, Кесслер так и сказал:
— Ежели, не приведи господи, провалим дело, то нам обоим, Пётр, конец — исправник точно выгонит.
Но Пётр каким-то шестым чувством понимал… да нет, он был уверен, что именно эти двое совершили убийство Миши. И эта уверенность придавала ему силы, помогала сконцентрировать всю волю в один кулак, которым он собирался «размозжить» контраргументы преступников. И это дало результат!
Именно в доме Тищенко он нашёл вторую — точь в точь — рукавицу, и тоже с пятном!
На допросе Тищенко, обычный мужик с запьянцовским видом, явно трусил, бегал глазами, да невпопад отвечал:
— Ась? Чего изволили сказать, вашбродь? Не расслышамши я…
Этими своими «ась?» он порядком надоел Петру, но тот гнул свою линию, задавая малозначащие вопросы: где был тогда-то, да кто может подтвердить, да как справлял Рождество, да какая семья и т. п.
Но когда Тищенко совсем успокоился, неожиданно спросил:
— Так кого грозился убить Трофим Тимощук?
Тот аж весь побелел, съёжился, забормотал:
— Кого… чего… никого, вашбродь…
— Ну как же, Тищенко? Вот же кабатчик слышал, как Тимощук, напившись, грозился убить своего племянника, Мишу Рыболенко. Из-за наследства, да?
— Какого такого наследства? — снова забормотал Тищенко. — Знать ничего не знаю, ведать…
— Ну, ты мне это брось… не знает он. А вот теперь послушай.
И Пётр стал рассказывать свою версию убийства, и по мере его рассказа он видел, как вытягивается лицо Тищенко. Наконец тот выдавил:
— Вашбродь… дык… откуда ты всё знаешь? Будто рядом был…
— Я так думаю, что ты и убил несчастного Мишу, — решил дожать его Пётр. — Вон и рукавица твоя на месте преступления с пятнами крови…
Он на секунду остановился и вдруг закричал:
— Признавайся, сволочь, как убивал невинное дитя!
Тищенко от неожиданности аж свалился со стула, расплакался и… стал давать признательные показания. Всё было так, как и предполагал Пётр: объявив внука наследником, старый Тимощук подписал ему, сам того не ведая, смертный приговор. Дабы устранить от получения наследства племянника, Трофим Тимощук и задумал убийство, подговорив Тищенко, да предварительно его напоив. Убили Мишу вечером, на городской окраине, куда его заманил под благовидным предлогом дядя. Убивал Трофим, а Никифор лишь помогал унести труп в лес. Глядя, как остервенело колет ножом ребёнка Трофим, Никифор дрожащим голосом спросил:
— Трофим… ты пошто его… так? Ить он… он же мёртвый.
— Дурак! — зло прошипел Трофим. — Пущай все думают, что это жиды убили для добывания крови.
Оба убийцы были арестованы и препровождены к судебному следователю. Нараставшая было ненависть к евреям сошла на нет, и в Дубоссарах вновь жизнь вошла в тихое неспешное русло заштатного провинциального городка… чего нельзя было сказать о Кишинёве.
По требованию уездного исправника Крушеван вынужден был напечатать опровержение своих домыслов по поводу нашумевшего убийства, но… мелким шрифтом, да на последней странице. Было уже слишком поздно… и город захлебнулся в крови невинных жертв озверелых погромщиков.
Однако Пётр Чеманский был отмечен и выделен самим исправником.
Азарт, упрямство, честолюбие… это сразу заметил и оценил в своём помощнике Хаджи-Коли (сам был таким!), постепенно поручая своему заместителю всё более сложные и сложные дела. А через год он ему стал доверять самое сложное и ответственное: внедрение зашифрованного сыщика в уголовную среду. Чеманский подбирал из сотрудников полиции наиболее подходящего для внедрения агента и работал с ним, маскируя его под уголовника или барыгу*, или бродягу и т. п. Готовил документы на вымышленное лицо, готовил легенду и под благовидным предлогом готовил к контакту с главарями преступного мира для внедрения в банду. Да ещё готовил обязательное прикрытие. И неустанно изучал, под руководством пристава, блатной мир.
А вот агентуру Хаджи-Коли своему заместителю не доверял.
— Константин Георгиевич, — недоумевал Пётр, — зачем обижаете? Думаете, не справлюсь?
— Да нет же, нет, — горячо возражал пристав, — я эту воровскую среду знаю, как свои пять пальцев. И знаю, что опытный вор с таким, не обижайтесь, юнцом на контакт не пойдёт. Только, уж извините, с опытным. И только так. Так что, Пётр Сергеевич, набирайтесь опыта — да вы же ещё так молоды!
Работа в сыске всё более и более захватывала Петра, а того более — укрепился азарт! Он себя чувствовал гончей (полицейских блатные ещё прозвали «легавыми» за ношение за лацканом пиджака значка бегущей легавой собаки), идущей по следу. И он ждал, и верил, что его ждут большие, интересные дела.
И также верил в большие дела другой человек — Котовский.
Глава шестая
Одесса, куда прибыл Григорий, жила спокойной размеренной жизнью: по улицам свистели паровички, любовно называемые населением «Ванька Головатый» за широкую трубу, доставляя одесситов по своим делам, бойко шумел Толчок, степенно прохаживалась вдоль по Приморскому бульвару благородная публика, и день, и ночь, не умолкая, работал порт.
Адрес, по которому направился Григорий уже под вечер, находился на самой окраине города — рабочей окраине.
Небольшой внутренний двор двухэтажного каменного здания с облупившейся штукатуркой был чу̀ток на любой звук (проходя гулкими подворотнями, Григорию невольно почудилось, что кто-то невидимый сопровождает его, как бы оценивая) — даже было слышно, как где-то наверху шкворчит сковородка.
В обшарпанном подъезде смешались запахи кислых щей, помоев, мышиного помёта… и ещё чёрт знает чего! Словом — типичное жильё пролетариев.
Поднявшись по застонавшей на все лады лестнице на второй этаж, Григорий условленно постучал и застыл в ожидании. Вскоре из-за двери послышалось сиплое:
— Кто?
— От С-Самуила Давидовича, — произнёс условленную фразу Григорий.

Дверь приоткрылась, и он увидел патлатого парня, в косоворотке, сапогах, с подозрением оглядывающего гостя, одетого в полупальто, сапоги и шапку.
Войдя в прихожую, Григорий тихо назвал пароль и только после этого был допущен в комнату.
— Да вы не раздевайтесь, — предупредил парень, — у нас холодно.
Хозяин или постоялец был нечёсан, небрит, имел измятое лицо, словно от перепоя, и от него разило дешёвым табаком. Не приглашая гостя сесть, он начеркал несколько слов на грязном листе, после чего протянул его Григорию со словами:
— Вот… адрес… ключи… деньги на первое время. Живите… пока там… вам сообщат… когда понадобитесь.
Уже выйдя из двора, Григорий оценил положение квартиры, её, как говорил Дорончан, конспирацию: двор, где слышен каждый шаг, «поющая» лестница, да ещё второй этаж — пожалуй, будет время… ежели что.
«Молодцы», — похвалил он незнакомых конспираторов.
Комнатка, где он нашёл временный приют, располагалась в таком же рабочем районе и была разве что ещё меньше предыдущей, да убранство: стол, стул, железная кровать, печь для обогрева убогого жилища. Внутри — холодина, хуже, чем на улице.
Григорий, не раздеваясь, сел на стул, тупо уставившись в пол.
«И это мой приют?! — думал огорчённо он. — И что дальше?»
Надежды, связанные с Дорончаном, начали стынуть в этой жалкой комнатушке, из которой путь был невесть куда. Но, поразмыслив, Григорий решил подождать — всё одно деваться некуда.
Одесса ему ещё понравилась в первый визит, и он решил, благо располагал временем, поближе ознакомиться с городом, где ему предстояло хлебнуть всего: и славы, и горечи, и побед, и поражений.
Потолкавшись на Толчке, плотно закусив в одной из многочисленных «обжорок», он направился на Приморский бульвар, где с Ришельевской лестницы у памятника Дюку* открывался дивный вид на порт.
В конце бульвара натужно ползла вверх конка, которую тащили четверо рослых битюгов, как вдруг лопнули сразу два толстых ремня. Вагон медленно, набирая ход, покатился вниз по рельсам. Но тут конюх, правивший лошадьми, соскочил с козел и бросился вслед. Подскочив сзади, он упёрся плечом в вагон, пытаясь остановить. Гуляющая публика ахнула, послышались возгласы:
— Раздавит… как есть раздавит парня!
— Да… куды, куды тя чёрт несёт?!
— Да… помогите же кто-нибудь ему!
Григорий, видя, как тяжко приходится парню, бросился помогать.
Но парень, широко облапив вагон и упираясь ногами в мостовую, сумел не только его остановить, но и начал толкать вверх. Да ещё успел натужно крикнуть Григорию:
— Стой, паря! Не лезь! Сам… сп… справлюсь!
И Григорий невольно остановился, мысленно повторяя — напрягая мышцы — усилия парня.
Два одессита с физиономиями то ли биндюжников, то ли владельцев лавчонок, в приличных пальто, с тросточками в руках лениво делились мнениями.
— А шо, Фроим, скажешь за этого… биндюжника? — спрашивал один, кивая на пыхтящего, как Ванька Головатый, конюха. — Запихнёт таки наверх?
— За это я имею тебе сказать, Эмиль, пару слов, — лениво отвечал второй, одноглазый, — шо таки нет.
Первый снисходительно, как человек, имеющий физическое превосходство над другим человеком, но в то же время почтительно, как человек, признающий верховенство другого человека, посмотрел на своего спутника и сказал:
— Ставлю рубиль против барашка, шо запихнёт.
— Идёт.
Меж тем вихрастый конюх загнал вагон наверх, чем заслужил аплодисменты многочисленных зевак. И Григорий, в совершенном восторге, подбежал к парню, которого окружили благодарные пассажиры.
Смущаясь и тяжело дыша от перенапряжения, конюх таращил серые глаза и переминался с ноги на ногу, бормоча под нос:
— Господа… господа… извольте садиться, вскорости поедем-с.
Григорий, глядя снизу вверх — на голову выше оказался парень — на богатыря, хлопнул того по плечу.
— Н-ну ты да-ал! Откуда такой с-силач?
— Да… рязанские мы, — скромно ответил конюх.
— А з-звать-то тебя как, рязанский?
— Ванька… Чуфистов.
— А м-меня Гришка… Котовский. Сам не с-слабак, но такого силача не встречал… р-разве что в цирке.
При этом слове Иван встрепенулся, широко улыбнувшись, застенчиво признался:
— А я…я цирк люблю.
— П-правда? — обрадовался Григорий. — Тогда айда, давай с-сходим в цирк? Где т-тебя ждать?
Договорившись с Иваном о встрече, Григорий, поминутно оглядываясь и мотая восторженно головой, ушёл. Тогда к Ивану, терпеливо дождавшись покуда разойдётся толпа, подошли два господина.
— Молодой человек, — обратился к нему одноглазый господин, — я говорю мало, но говорю смачно — браво! Но я имею до вас ещё сказать два слова: я имел проигрыш целого барашка. И за вами долг.
Иван, завязывая оборвавшиеся постромки, удивлённо уставился на одноглазого — какой ещё долг?
— Какого такого… барашка? — недоумённо спросил он.
— Эмиль, объясни мальчику, — сказал одноглазый.
— Пятишницу… пятишницу ты должен этому почтенному господину, — охотно пояснил второй, с наглой мордой, господин.
Иван смотрел, хлопая глазами и ничего не понимая.
— За …за что?
Одноглазый, которому надоела эта игра слов, коротко приказал:
— Эмиль… скажи этой деревенщине за долг, да проще.
После чего повернулся и направился к тротуару, но, не успев дойти, он услышал за спиной мягкий шлепок и вскрик:
— А-ай!
Обернувшись, он увидел у своих ног распластанное тело Эмиля и услышал всё разрастающийся смех пассажиров конки.
— Та-ак… — прошипел одноглазый. — Эмиль, встань тут и слушай здесь: надо попробовать этого мальчика… поговори с ним за наш берег, да вежливо так: кто он, с откудова, да чем дышит. Да скажи, шо с нами он будет в выигрыше.
— А е…а если… — охая и почёсывая бока, спросил Эмиль, — он не…
— А если не согласится, — перебил его одноглазый, — тогда объясни мальчику кто такой Фроим Грач, которого боится вся Молдаванка.
И эти слова не были пустыми, ибо Фроим Грач, лидер молдаванской «отрицаловки», порой делал такое, что заставлял ахать чуть не всю Одессу — а нечего говорить за Молдаванку! И уж кто-кто, а его помощник и правая рука Эмиль Люмкис это знал лучше всех… как, вы не знаете?! Фи-и… тогда позвольте сказать несколько слов за Фроима Грача.
Когда в семье грузчика Янкеля Фишмана, что жил на улице Степовой, родился седьмой ребёнок, его нарекли Фроимом. Уже к двенадцати годам он осиротел — надорвался на работе отец, пытаясь прокормить большую семью (аж двенадцать душ детей!), и пришлось Фроиму идти в люди, помогать старшему брату Нюме, на долю которого выпало содержать большую семью в качестве грузчика в продуктовой лавке дяди Мона — но! Там же юный Фроим и усёк то главное, что предопределило его дальнейшую судьбу: сколь ни надрывайся, всё одно не заработаешь даже на сносное существование — а нечего и говорить про достойную жизнь! Поразмыслив, он принял простое решение — начал воровать. Сначала по мелочам, а, по мере возникновения «аппетита» (семья стала даже неплохо питаться!), и по-крупному… и сразу попался на «горячем». Дядя Мон не стал долго разбираться, а стянул юному вору драные штаны и стал нещадно лупцевать по тощему голому заду, приговаривая:
— Не воруй, сволочь, не воруй!
Фроим вопил так, что, наверное, было слышно на другом конце Молдаванки, иначе как объяснить появление в лавке такого уважаемого человека как Рувим Грач — о-о, это был большой человек! И в прямом смысле — два метра ростом! И в переносном — глава молдаванской «отрицаловки», державший в узде всех мелких лавочников.
— Дядя Мон, я имею сказать до тебя: за шо ты так лупцуешь мальчика? — спросил, морщась от крика истязаемого, Грач.
— Он вор, вор! Он обворовал меня, сволочь! — завопил вошедший в раж лавочник.
— Опять таки имею сказать до тебя: я тоже вор… и шо с этого мне будет, а?
Этот простой вопрос поставил в тупик лавочника, он даже прервал экзекуцию, застыв с поднятой рукой и открытым ртом. Тогда Рувим отобрал у него ремень, оттолкнул и сказал Фроиму:
— Пошли со мной, мальчик, и я научу тебя жить.
Так Фроим оказался в «классе» Грача, где стал обучаться с ещё шестью учениками премудростям воровского искусства — о-о, это действительно было искусство! И уже через месяц способный ученик научился мастерски вырезать карманы у богатеев, красть кошельки на пляжах Аркадии и Отрады, выискивать и наводить на богатые квартиры «умельцев» Грача, все воспитанники которого назывались «грачатами». Но, помимо воровских достоинств, Фроим обнаруживал и лидерские качества: осторожность, продуманность и, главное для любого вора, фарт*. Ему фартило буквально во всём! И к двадцати годам он стал известен в воровской среде не только Молдаванки, но и Фонтана, Слободки и даже центра города — а нечего говорить про полицию! Давненько на него в сыске было заведено досье, с годами становившееся всё толще и толще — да что с того! Где доказательства, господа сыщики, где доказательства?! То-то… дошло до того, что в его услугах нуждался даже полицмейстер!
— Послушай-ка, братец, — обратился как-то в своём кабинете к «любезно приглашённому» вору полицмейстер, — тут намечается… э-э… приезд графа Витте, нашего главного министра. Так вот… э-э… не мог бы ты оказать лично мне услугу?
«Фараон просит меня за услугу?! — подумал поражённый Фроим. — Наверное, это конец света, не будь я любимым сыном своей мамы», но вслух спросил:
— О какой услуге соизволит говорить ваше высокоблагородие?
— О…о деликатной услуге. И если, дай-то бог, всё пройдёт как надо, то… то за мной не пропадёт.
И далее он изложил просьбу, до того необычную, что даже Фроим был ошарашен, но… виду не подал: речь шла ни много, ни мало, как обокрасть самого Витте!
— Всё равно что, — уточнил полицмейстер. — Портмоне или часы… всё равно. Знаю, что для тебя это сущий пустяк. Так сможешь?
— Я не задаю глупый вопрос: зачем? Если вашему высокоблагородию так угодно — будет исполнено в лучшем виде… но где гарантия, шо меня не заарестуют?
— Моё слово — вот гарантия.
— Тогда я понял за просьбу.
Заказная кража была исполнена отменно: во время встречи Витте никто не обратил внимания на хорошо одетого молодого человека, который появился возле графа всего лишь на несколько секунд, которых, впрочем, оказалось достаточно, чтобы золотые часы перекочевали из графского кармана в карман молодого человека. И когда, обнаруживший на следующий день пропажу, удручённый граф обратился к полицмейстеру, тот снисходительно сказал:
— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство, пока я здесь полицмейстером — воровство будет пресекаться в корне. Обещаю, что через два часа часы снова будут у вас.
Надо ли говорить, что он сдержал своё слово!
И не удивительно, что после ухода на покой Рувима в 1902 году, последний назначил именно Фроима на своё место, который взял фамилию учителя. Так вот и стал Фишман Грачём. И здесь он показал себя отменным лидером, умело лавируя между различными бандгруппами Пересыпи, Слободки, Фонтана, Бугаевки (хотя и потерял в одной из стычек глаз), приобретя такой вес, что его уважали и одновременно боялись все блатные и даже городовые — чего же больше?!
Вот о каком человеке предстояло поведать Люмкису.
Оставив своего помощника решать вопрос с этой… деревенщиной, Фроим Грач не спеша удалился.
А Григорий тем временем, пока шли эти разборки, узнал, что в городе одновременно, помимо известного цирка итальянцев братьев Труцци, гастролирует и цирк немца Сура. Обе труппы были сильны — куда идти, где лучше?
Один из горожан, которому задал этот вопрос Григорий, ответил как истинный одессит:
— Молодой человек, ви хотите знать? Таки я вам отвечу: лучше там, где я был сегодня. А сегодня я был у Труцци. Забудьте, что сейчас зима и вам плохо, у Труцци — вечное лето, и там вам будет хорошо.
Григорий внял совету почтенного одессита, и вечером они с Иваном толклись на галёрке цирка, имея на руках билеты, купленные за полтинник.
Первое отделение пролетело как один миг, настолько было интересно: акробаты, жонглёры, клоуны, наездники — какой яркий разноцветный мир! Но второе отделение оказалось куда как интересней: начали выступать борцы.
Когда шталмейстер* начал представлять выстроившихся в круг борцов — все мускулистые, поджарые красавцы — зрители каждое имя встречали аплодисментами. Но вот шталмейстер зычно выкрикнул:
— Борцы цирка Труцци вызывают желающих на борьбу! Приз — пятьдесят рублей!
— Ого! — воскликнул Григорий, толкая Ивана и указывая глазами на потянувшихся здоровяков из зала, чтобы записаться. — П-попробуй, Ваня.
— Да нешто мне с энтими справиться? — засомневался Иван.
— А ты п-попробуй… сила есть. Можешь на п-поясах?
— Могу трошки… у нас в деревне баловался.
— И к-как?
— Ну… никто меня не барывал.
— Д-давай, Ваня, не робей! Положи их всех!
Иван решился и пошёл записываться.
А на арене борцы играючи расправлялись с любителями — клали на лопатки одного за другим под весёлый хохот зала, под колкие советы проигравшим:
— Порты, порты не забудь… тюха!
— Ништо, хлопец, ишо успеешь побороть… бабу свою!
— Куды те, мужику! Со свиным рылом — да в калашный ряд!
Последним, восьмым по счёту, на арену вышел, неуверенно ступая, Иван… и заслужил сразу уважительное «у-ууу!» своей внушительной фигурой. И Иван не подкачал: один за другим летели на ковёр борцы — всех поборол, завоевав приз.
Вышедший из-за кулис один из хозяев-братьев, Энрико, солидно пожал ошеломлённому таким успехом Ивану руку, спросил, смешно коверкая слова и стараясь перекричать зрителей:
— Ошень, ошень карош! Сильный, как шорт! Откуда… э-э… такой взять богатыр?
— Рязанские мы… да у нас много таких, — скромно ответил Иван.
— Ой, ля-ля! — восторженно поцокал языком хозяин. — Такой богатыр — в цирк надо!
— Не-а, — протянул Иван, — мне при лошадях лучше.
— Цирк Труцци всегда ждать такой богатыр. Ты захотеть приходить, и мы тебя брать как борец.
Григорий, наверное, громче всех кричал и хлопал, когда Ивану вручали деньги и поздравлял сам директор. Но были в партере два угрюмых господина, которые, казалось, не разделяли общего восторга.
— Да-а, Эмиль, — протянул одноглазый господин, — такого мальчика упустил.
— Да… — попытался оправдаться Люмкис, — да, Фроим, шоб мне всю жизнь заикаться на людях! Этот мальчик думает только об своих лошадях, он не хочет думать об нашем береге…
— Так покажи ему наш берег, понял? И умоляю тебя: не говори много, да барашка с него не забудь взять.
— Я понял за берег, Фроим. Мы холоднокровно покажем его этому мальчику.
Когда Григорий с Иваном вышли из цирка — собравшаяся толпа устроила конюху целую овацию, изрядно его смутив.
— Видал, как т-тебя приветствуют? — толкнул его локтем Григорий. — А ты заладил: я конюх, я конюх… не-ет, Ваня, твоё м-место в цирке. П-подумай.
— Страховито как-то… не привышно всё, — отнекивался Иван. — Нешто смогу?
— С-сможешь, ешё как сможешь! — горячо убеждал его Григорий.
Так, беседуя, прошли они целый квартал, прежде чем свернуть в полутёмный переулок… где их поджидали.
Когда им навстречу двинулось несколько тёмных фигур, Григорий сразу почувствовал опасность.
— Мы имеем пару слов до этого мальчика, — сказала одна из фигур, указывая на Ивана. — Вы, может, будете смеяться, но вам привет от Фроима Грача.
— Грач? Кто такой Г-Грач? — не понял Григорий. Зато Иван хорошо понял.
— Не имейте надоедать глупыми вопросами людям, парниша. Нам надо забрать у этого мальчика то, шо принадлежит Фроиму.
Григорий хотел было ещё что-то спросить, как вдруг откуда-то сбоку его ударили чем-то тяжёлым по голове…
«Гриша, Гриша…» — откуда-то издалека доносился чей-то голос.
Григорий ощутил лёгкое похлопывание по щекам и открыл глаза. Над ним смутно белело лицо Ивана, с тревогой смотрящего на него.
— А где… эти? — спросил, вставая, Григорий.
— А там, — мотнул головой назад Иван.
Восемь налётчиков, «ахая и охая», валялись в переулке, силясь подняться.
— Это ты их, В-Ваня?
— А то кто ж? Вестимо я…а неча тут лезть!
— Ну вот… а г-говоришь — страховито. Тебе, Ваня, отсюда д-дорога прямо в цирк. Чемпионом с-станешь, помяни моё слово. А из Одессы т-тебе надо уходить… эти тебя н-не оставят, не п-простят.
Да Иван и сам понимал это.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.