
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Алексей Лосев и разгадка двадцатого века

От автора
Настоящая книга могла быть опубликована ещё на пороге наступившего века, но этого не случилось. Вдаваться в подробности причин столь значительной задержки я здесь не стану, зато готов поделиться воспоминаниями о событиях, предшествующих рождению самόй книги.
Всё началось с того, что летним утром 1996 года (дело было накануне «Дня независимости») я услышал обращённое к слушателям предложение «Радио России» принять участие в проекте «Двадцатый век: Люди. События. Идеи». Для этого достаточно было найти подходящее слово для оценки века уходящего, а также назвать Человека двадцатого века. Когда, дождавшись назначенного часа, я с трудом дозвонился до редакции, меня попросили быть предельно кратким. Поэтому я просто назвал двадцатый век «веком отчуждения» для западной цивилизации и «веком пробуждения» для России. Второй ответ я всё же посчитал необходимым слегка развернуть и потому сказал следующее: «Человеком двадцатого века является Алексей Фёдорович Лосев. Он осуществил ещё в тридцатые годы прорыв в новую реальность, реализовав цели „серебряного века“ и проявив на религиозно-философском уровне тайну смысла, тайну имени, тайну истории. Чтобы освоить лосевское наследие до конца века, необходимо немедленное проявление общественной воли».
После короткой паузы я услышал с другого конца провода:
— Ваши ответы очень интересны… А кто такой Лосев?
— Как кто? — опешил я.
— Но, понимаете, слушатели у нас разные. Он кто, — философ?
— Да. Но он и историк, и филолог, и богослов, и… Он — Лосев!
— Спасибо. Ваши ответы приняты.
Этим диалогом всё и ограничилось. «Неизвестный Лосев» интереса у «Радио России» не вызвал. И, как позже выяснилось, у других средств массовой информации — тоже. Ну, а вне пределов СМИ?.. Не менее дюжины видных политических деятелей разного толка ответили на мои обращения о возможности развития и использования идей Лосева на благо России гробовым молчанием. И ведь всё это происходило на фоне ежегодного выхода в издательстве «Мысль» объёмистых томов лосевских трудов, включая те, что долгие десятилетия таились от посторонних глаз в авторском архиве. Пушкин, увы, действительно, был прав: «мы ленивы и нелюбопытны».
Вот тогда-то у меня и возник замысел написать книгу, в которой можно было бы попытаться, изложив сущность лосевских откровений, спроецировать их на главные проблемы двадцатого века. Со стороны подобная затея, вне всяких сомнений, выглядела вéрхом самонадеянности. Между тем я считал, что определённый положительный опыт такого рода у меня имеется: года за четыре до описываемых событий Российский открытый университет издал десятитысячным тиражом цикл лекций авторского учебного курса «Моё мировидение», который я вёл в течение ряда лет в его стенах. Правда, основой лекций этого курса служило лишь то, что являлось в те годы моим собственным «очам ума», стало быть, сам я был волен в выборе трактовки увиденного. Здесь же мне предстояло играть по правилам, устанавливаемым непосредственно Лосевым, которые он сосредоточил в итоговой «формуле», обнародованной им накануне своего 90-летия: «Сама действительность, и её усвоение, и её переделывание требуют от нас символического образа мышления».
И тут произошло неожиданное: я с необычайной ясностью понял, что полностью готов отразить лосевские правила в своей книге. Работа над ней превратилась для меня поистине в праздник, так что замысел мой очень скоро оказался воплощённым в готовой к публикации рукописи. Дело в том, что саму выразительно-смысловую символическую реальность, осознанную Лосевым, я воспринял (это восприятие сохраняется и поныне) в качестве неотъемлемой основы целостной картины мироздания, которой так недостаёт странам христианского мира, ориентируемым в ХХ веке их интеллектуальным авангардом на «лоскутное» мировосприятие. К тому же по мере проникновения лосевского императива в общественное сознание в нём возникают благоприятные условия для восстановления естественной связи между сакральным (священным) и мирским, на долгие века утраченной вследствие отрыва истины веры от истины знания. Насколько всё это важно, говорить не приходится.
Проблема, однако, в том, что для обновлённого восприятия требуется полное и ясное осознание того, что являемая нашим чувствам и уму действительность по самόй своей природе (естеству) рельефна — обладает внутренним и внешним уровнями бытия, причём, внешнее, будучи символом внутреннего, всегда его выражает, так что между ними существует неразрывное смысловое соединение. И всё это, как показал Лосев, оказывается совершенно не зависимым от человеческого разума, относясь как к любой отдельной вещи, так и ко всему миру в целом, образуя, тем самым, фундамент вселенского Всеединства и Всеразличия.
К сожалению, в настоящее время человек способен ощутить себя в такой реальности лишь в интуитивном озарении, эстетическом восприятии, религиозном чувствовании. Что же касается логико-понятийного (рационального) осмысления, — основы нынешнего научного мышления, — к непререкаемости которого его приучают со школьной скамьи, то ему доступ в символическую реальность начисто перекрыт. Разум при этом вынужден довольствоваться лишь поверхностью понятийного поля, где и сам «символ» — всего лишь термин, т.е. понятие, обозначающее знак вещи, её условный шифр, стало быть, плод всё того же разума.
Не слишком трудно представить, что такое мышление, пределом которого остаётся предел применимости понятия, обрекает себя на незавидную участь мифических двумерных «плоскатиков», — они не только полностью лишены возможности оторваться от поверхности, на которой обитают, но и вообще не в состоянии представить себе третье измерение — его для них просто не существует. Но ведь именно таково, на поверку, положение нынешней фундаментальной науки, и она готова отстаивать незыблемость своего толкования реальности, создав для этого круговую, глубоко эшелонированную оборону, нимало не смущаясь тем, что из-за стен её крепостей давно уже видны «уши» гипертрофированного самомнения, чьим фундаментом является всего лишь исторически ограниченный «опыт изолированного индивидуализма и рационалистической метафизики» (по выражению Лосева). Впрочем, к такой позиции как нельзя лучше применим давний вывод бессмертного Гёте: «Ложное учение не поддаётся опровержению — оно исходит из того, что ложь есть истина».
Всё это, на первый взгляд, весьма печально и не внушает оптимизма. Однако человеческая мысль, как свидетельствует многовековая история её развития, всегда находит выход из тупика: выявляется необходимость отказа от привычных стереотипов — происходит требуемая для этого перемена мысли — μετάνοια (греч.). В православной аскезе этому понятию соответствует покаяние как отказ от прошлых заблуждений. Мне же, идя по пути развития лосевских идей, удалось обнаружить условие, необходимое для ликвидации заблуждений и в сугубо светской науке, позволяющее приступить к активному использованию символического образа мышления в самих её основах. Здесь я нахожу возможным ограничиться лишь уведомлением, что условие это — инверсия поля познания, то есть общая смена направленности научной мысли при построении картины мира, результатом чего становится плодотворный прорыв как в основах естествознания, так и в сфере образования.
К настоящему моменту объём имеющихся у меня материалов, освещающих практическое осуществление инверсии поля познания (они публиковались в течение ряда лет в форме установочных бесед на страницах одного из журналов РАН) позволяет мне попытаться предложить их вниманию читателей, включив в готовую к печати книгу «Моё мировидение-2: из мира Эйнштейна — в мир Лосева». И хотя самомý Лосеву в ней уделено значительное место, тем не менее представить её к публикации я вправе лишь после выхода в свет настоящей книги, посвящённой ему целиком, рассматривая это, прежде всего, как акт исторической справедливости по отношению к памяти замечательного русского мыслителя, действительно заслужившего право на титул ЧЕЛОВЕКА двадцатого века.
Семён Вениаминович Гальперин,
независимый исследователь
Часть первая
Уроки монаха Андроника
18 октября 1993 года к четырём часам пополудни небольшая старинная церковь в центре Москвы еле вмещала участников Международной научной конференции к столетию со дня рождения А. Ф. Лосева. В распорядке дня, предшествовавшего её официальному открытию, значилось: «Молебен и панихида в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках». Ничего необычного этот пункт не предвещал: почитание по канонам Православной Церкви памяти ушедших уже воспринималось в кругах гуманитариев как восстановленная традиция. И всё же встреча с необычным произошла: храмовое действо началось с оглашения тайного монашеского пострига Алексея Фёдоровича и его супруги Валентины Михайловны, принятого ими более шестидесяти лет тому назад. Думается, каждый из присутствующих (хотя я и сужу лишь по себе) почувствовал в эти минуты приобщение к чему-то неведомому, бесконечно далекому от суетных дел и в то же время предельно реальному. Всё, что было известно до этого о жизни и творчестве Алексея Лосева, включая свидетельства людей, близко знавших его, предстало в совершенно новом свете, обрело значимость необходимых обществу уроков, когда Россия, вовлекаемая в водоворот гибельных событий, начала искать спасение в православной вере.
Сам Лосев как православный мыслитель, войдя в русло самобытной русской философии с её святоотеческими корнями, выбрал для себя путь восхождения к Истине особенно трудный, поскольку следовать по нему пришлось в мрачные годы богоотрицания. Это была жизнь (по его же выражению) «слабой философской индивидуальности, затерявшейся в необъятном море коммунизма, но мыслившей самостоятельно», внешне, конечно, мало напоминавшая классические жития православных святых.
Лосев-учёный поставил предельно ясную цель — радикально сменить основы научного мировоззрения. Нынешнее — результат развития протестантского мировосприятия — должно было уступить место научному мировоззрению на православной основе. К этому и были направлены разработки Лосева 20-х годов: начала абсолютной диалектики и принципы абсолютной мифологии, восходящие к триединству Св. Троицы и божественности Абсолютной Личности; творчески развитый православно понимаемый неоплатонизм; глубоко осмысленная философия имени, продолжающая традиции православного энергетизма; провозглашенное и многократно подтверждённое равноправие алогического и логического — основа синтеза веры и знания и др. Шаг за шагом продвигался Лосев к вершине, где сливались воедино богословие, философия, наука, искусство, нравственный опыт. Возникли контуры грандиозного учения, которое он, однако, не мог выразить в общедоступной форме, прежде всего потому, что вокруг разворачивалась беспрецедентная, беспощадная борьба с религией; само упоминание Бога (помимо Его отрицания) делало всякую публикацию по такой тематике просто невозможной. И обретший просветление ума философ-богослов вынужден облекать содержание своих работ в сложную замысловатую форму, насыщая их отступлениями и пассажами, в любом случае апеллируя лишь к диалектике, которой он владеет в совершенстве. Утверждая и развивая православное миропостижение, Лосев готов к научным дискуссиям, всестороннему, непредвзятому обсуждению. Однако жизнь предлагает совершенно иные варианты.
Искоренявшая всякое инакомыслие власть даже в сугубо религиозных спорах усматривала некую политическую подоплеку, угрозу своему существованию. Это и предопределило дальнейшую судьбу профессора Лосева, которую разделила с ним нежная и любящая супруга Валентина Михайловна, незаменимая помощница во всех делах, соратница в борьбе за чистоту православной веры. Вместе они участвовали в движении имяславцев, которые предупреждали, что Россия погибнет, если перестанет почитать Имя Божие; вели агитацию против сергианцев, раскалывавших Русскую Православную Церковь унизительным компромиссом с безбожной властью. Оба они всё больше убеждаются в дальнейшей невозможности жить церковно-свободно и начинают готовиться к уходу в монастырь. И хотя монастыри повсюду запрещены и разогнаны, Лосевы, вопреки всему, решаются основать монастырь в миру, дать монашеские обеты, жить в духовном браке, предавшись истинной цели христианской жизни — стяжанию Духа Святого Божия.
Третьего июня 1929 года супруги принимают тайный постриг, совершённый их духовным наставником, афонским старцем, архимандритом о. Давидом. Лосевых нарекли именами монаха Андроника и монахини Афанасии — христиан V-го века, супругов, которые после внезапной смерти любимых детей ушли в монастырь, разлучившись на много лет, а затем, встретившись вновь, прожили до конца дней в духовном браке (день прпп. Андроника и Афанасии отмечается 22 октября).
Принятие монашеского пострига означало для Лосева постижение мистического историзма, возникающего из культа Абсолютной Личности. И он открыто заявил в «Диалектике мифа», опубликованной в 1930 году: «Для монаха нет безразличных вещей. Монах всё переживает, как историю, а именно как историю своего спасения и мирового спасения. Только монах есть универсалист в смысле всеобщего историзма, и только монах исповедует историзм, не будучи рабски привязан к тому, что толпа и улица считает историей».
По-особому воспринимается монахом Андроником и то, что именуется в миру личной жизнью: «Он умеет поставить свою личность и свои личные привязанности на правильное место; и только монах один — не мещанин. Может ли сравниться тонкость чувств и глубина созерцания монаха с мещанством того, что называется „мирской жизнью“? Может ли, кроме монаха, кто-нибудь понять, что истинное монашество есть супружество, а истинный брак есть монашество?.. Всё бездарно в сравнении с монашеством, и всякий подвиг в сравнении с ним есть мещанство». И далее прямое обращение к той, что вместе с ним дала монашеские обеты: «Только ты, сестра и невеста, дева и мать, только ты, подвижница и монахиня, узнала суету мира и мудрость отречения от женских немощей… Помнишь, там, в монастыре, эта узренная радость навеки и здесь, в миру, это наше томление…»
Однако стены монастыря в миру не смогли защитить монахов ХХ века от произвола тоталитарного режима, чьим главным оружием было устрашение. Они оказались участниками «дела», сфабрикованного ОГПУ. Преданность православной вере обернулась обвинением «в антисоветской агитации и пропаганде», участие в кружках имяславцев превратилось в «деятельность во Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников „Истинно православная церковь“».
Два с половиной года провел Алексей Фёдорович в заключении, чуть меньше — Валентина Михайловна. Об этом периоде его жизни известно из отправленных жене лагерных писем. Он сполна испытал муки богооставленнности и в камере-одиночке внутренней тюрьмы Лубянки, и в переполненной палатке 2-го отделения Свирлага: «…такое отсутствие радости, ласки, молитвы, такая оставленность и безблагодатность…» «…Не есть ли это ликующая победа злых сил над нами, а вовсе не какой-то особый „промысел Божий“?..» «Я лишен благодати уже давным-давно, и нет надежды на её возвращение…» Будучи с детских лет приобщённым к церковной жизни, заключённый Лосев оказывается полностью отлучённым от неё: «…Но позвольте, что же это за религия — без таинств, без обряда, без наставления, без постов, без всякого элементарного указания на внешнее присутствие религии?..» Ему, глубоко верующему человеку, трудно, тем не менее, смириться с посланным Богом испытанием: «…Бог требует отдать всякое, хотя бы простейшее понимание происходящего, и волей-неволей приходится его отдавать, ибо Христос выше и дороже понимания жизни и самóй науки. Но, Боже мой, как всё это безрадостно! Как ты, Господи, отнял у меня ласку жизни, как лишил радости подвига и утешения в молитве! Как презрел всю мою многолетнюю службу Тебе в разуме и поклонении святыя славы…» И всё же, несмотря на поражение ревматизмом после работы с мокрыми баграми пальцев, на усилившуюся в лагере болезнь глаз, которая позже приведёт к полной слепоте, на бессмыслицу лагерной жизни, он находит в себе силы написать: «…Знаю и то, что страдания мои нужны миру и мировой истории, …что всё это осмысленно и что я должен быть послушным и смиренным…»
И наконец: «…Благословляю жизнь, благословляю все свои страдания, и — благодарю за всё!.. Думаю, что во благо, и что всё кончится великим, лучезарным концом…»
Однако испытания не закончились с выходом Лосева на свободу и возвращением в родной дом. С ним предпочитают не иметь дела: ведь это его клеймил позором Каганович на XVI съезде ВКП (б); ведь сам Максим Горький, процитировав на страницах «Правды» и «Известий» фразу Лосева: «…Россия кончилась с того момента, как народ перестал быть православным»… и т.д., назвал ее автора «малограмотным», «безумным» и вообще посоветовал ему «повеситься». Он оказывается под гласным надзором партийных идеологов; именно они устанавливают рамки, в которых допустима его научная деятельность. Неосторожно вырвавшееся слово, попавшаяся на глаза бдительному редактору подозрительная фраза из работы, выполненной в «дозволенных» рамках, могут стать поводом для повторных репрессий.
До конца своих дней Лосев будет лишён возможности осуществлять в полной мере своё, названное им самим предназначение «восславить Бога в разуме, в живом уме». Возвратившись из заключения, он уже не застал в живых о. Давида и всегда ощущал при всех своих огромных знаниях неудовлетворённую потребность в духовном наставнике. Через много лет он скажет: «…Раз не посылается мне наставник — то уж значит надо так. Это дело духовное. Но сам я не ищу. Если будет мне послан — другое дело, как мне был послан сорок лет назад. Может быть после моей смерти понадобится».
И всё же послушание монаха Андроника продолжается, и с ним рядом монахиня Афанасия. Нам не суждено узнать содержание их бесед о сокровенном, о духовном — на виду лишь житейские заботы, дела мирские. Представление об их монастыре в миру может дать лишь выдержка из письма Лосева, написанного в заключении: «Мы с тобой за много лет дружбы выработали новые и совершенно оригинальные формы жизни, то соединение науки, философии и духовного брака, на которое мало у кого хватило пороху и почти даже не снилось никакому мещанству из современных учёных, людей брачных и монахов. Соединение этих путей в один ясный и пламенный восторг, в котором совместилась тишина внутренних безмолвных созерцаний любви и мира с энергией научно-философского творчества, это то, что создал Лосев и никто другой, и это то, оригинальность, глубину и жизненность чего никто не сможет отнять у четы Лосевых». Но когда Алексею Федоровичу исполнится шестьдесят, Бог призовет к Себе Валентину Михайловну, и дальнейшее послушание придется нести ему одному.
В миру Лосев оставался почтенным профессором, окруженным учениками-аспирантами. По эрудиции с ним некого поставить рядом; поражает воображение и плодотворность его научной деятельности в последние десятилетия жизни. Вместе с тем он не находит достойного признания в пронизанных партийной идеологией высших научных кругах и глубоко этим оскорблён. Но наедине с Богом он — монах, во всем усматривающий Его волю. Лосев способен погрузиться во время учёного заседания в священнобезмолвие умнóй Иисусовой молитвы (в давние времена он обучался ей у афонских старцев), осенить себя незаметно для собеседников мелким крестом под пиджаком против сердца. Весь трагизм этой беспримерной жизни выражен в словах 80-летнего Лосева: «Моя церковь внутрь ушла… Я вынес весь сталинизм с первой секунды до последней на своих плечах… И у меня не отчаяние, а отшельничество… Как Серафим Саровский, который несколько лет не ходил в церковь».
Когда в России начался благотворный поворот к вере, Лосев находит силы для откровенных бесед с учениками и почитателями об общении с Богом, Который доступен в православии через живое общение с Ним, чего нет в протестантизме: «…Протестантизм — тоже религия, тоже общение, но — общение в понятиях… У нас общение с Богом может быть и через прикосновение (к иконам), вкус (при причащении), обоняние (ладан), слух, зрение — все чувства… В православии Бог есть крещение, исповедь, причастие, молитва — всё это таинства. Наш Бог доступен для общения…»
Так, сочетая до последних дней заботы о делах мирских — научных с духовным наставничеством и прославлением Имени Божия, завершил свой земной путь выдающийся подвижник земли русской…
«Не появись этой страшной бездны…»
В 1851 году в журнале «Москвитянин» было опубликовано стихотворение Ф. И. Тютчева «Наш век». Вот оно:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен
Невыносимое он днесь выносит…
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Действительно, свет знаний, который щедро изливала просвещённая Европа на необразованную Россию, рассеивал темноту невежества. Но лучи его оказывались на российской почве губительными для веры человека в Бога, иссушая и испепеляя её. Сама Европа такого разрушительного для общественного сознания явления не знала. Здесь на формирование системы образования оказал существенное влияние современник Декарта Ян Коменский (XVII в.), разделявший его взгляды на мир. Предложенные им классно-урочная форма обучения, принцип тотальности (обучение всех, всему и повсеместно), наконец, цель обучения — достижение высшей мудрости (пансофии) полностью соответствовали деятельному духу протестантства. Рациональное знание, приобретаемое человеком, никак не противопоставлялось ни форме, ни содержанию его религиозности. Наоборот, само обучение оказывалось следованием Божественному предначертанию. Ведь, по Лютеру, Бог ставит перед каждым человеком задачу найти своё призвание (Beruf), у которого в немецком языке есть второе значение — «профессия». Стало быть, стремясь получить мирскую профессию и затем выполняя в её рамках свой общественный долг, человек остаётся верным Богу. Что же касается содержания знаний, то наука предлагает его разуму мир в понятиях, а философия убеждает, что и Бог воспринимается разумом не иначе, нежели в понятиях; ими же выражена и символика самогό Священного Писания. Так что человек вполне резонно всецело доверяет своему разуму. Это нисколько не мешает ему творить добро во имя Бога, Который безраздельно владеет его сердцем (чувствами). Если же и возникает конфликт между умом и сердцем, он не выйдет за пределы умудрённой многовековым опытом протестантской этики.
Европейскую образованность и взяли в качестве образца для России с её совершенно иными религиозными традициями, судить о которых необходимо было именно с позиций православия. Вера человека здесь не сводится ни к внешней его воцерковлённости, ни даже к сáмому рьяному благочестию. Она охватывает человека целиком, поскольку это жизнь его в Боге, где ум и сердце имеют особый смысл, весьма далекий от их психологической и физиологической трактовки. Он связан с аскетическим преданием Восточной Церкви, не только чуждым, но и вообще неизвестным протестантству. Здесь сердце (καρδία) — средоточие человеческой природы, источник всех духовных и душевных движений человека, корень его интеллекта и воли; ум (νοΰς) — местопребывание личности, начало сознания и свободы (отцы Восточной Церкви часто связывают его с образом Божьим в человеке). Без сердца ум бессилен, без ума сердце слепо.
Рациональное знание разрушает мистическое единство ума и сердца, и уже поэтому противостоит вере в Бога. Но оно одновременно способно породить новую веру — веру в мир, лишённый Бога. Именно об этом говорит Достоевский устами князя Мышкина: «…Наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль…». И возникает она, по его мнению, «из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу». Он совершенно прав. Действительно, ум как созерцательная способность человека насыщается естественнонаучными знаниями с их устойчивым логико-понятийным каркасом, неоспоримыми, экспериментально подтверждаемыми доказательствами; широкими возможностями быть применёнными на практике. Последнее оказывается самым важным для сердца — деятельностной способности человека, у которого появляется возможность делать реальное дело. Его сердце вновь становится зрячим, а ум — сильным. Но теперь открывшийся ему мир лишён Бога, он оказывается не храмом, а всего лишь мастерской, в котором мастером высшей квалификации становится не кто иной, как сам человек. Что же касается установок полностью рационализованного вероучения, то они действительно «ни уму, ни сердцу». Человек делает дело — и этого вполне достаточно. Подтверждение тому — тургеневский «нигилист» Базаров: обходясь без Бога, он остаётся неутомимым тружеником, пытаясь выведать секреты природы и исправлять её огрехи, врачуя людские физические недуги. А далее открывается путь к человекобожию, к миру абсолютного человеческого произвола, в котором всё дозволено, всё оправдано.
Приведённое описание вовсе не означает, что русские мальчики — лицеисты, гимназисты, кадеты, по мере своего просвещения сплошь превращались в убеждённых богоборцев, либо всю жизнь потом страдали, не в силах преодолеть безверие, как описывает Тютчев. Саму духовную элиту России составляли как раз высокообразованные и притом глубоко верующие в Бога люди. И никого из них не миновала беспокойная пора отрочества, когда каждый неизбежно сам превращался в арену жестоких схваток между собственными «умом» и «сердцем», которые, конечно, могли протекать по-разному. Так, у Вл. Соловьёва, которого Лосев считал своим первым учителем философии, они вспыхивали неоднократно, принимая острый и затяжной характер, заставляя его совершать шокировавшие окружающих, порой просто кощунственные поступки.
Что же касается самого Лосева, то, как показывают и факты его биографии, и собственные воспоминания, возникающие противоречия не только не поколебали его веру в Бога, но, наоборот, побудили выступить в её защиту. Во время летних каникул, перейдя в шестой класс гимназии, он сочиняет статью: «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь», поместив её в собственноручно сшитую небольшую тетрадь. Здесь атеизм определяется автором как явление «противоестественное, болезненное и силой стремящееся переделать на своих уродливых началах человеческую науку и жизнь», и атеистам всех веков и всех мастей достаётся по первое число. «Мы будем бороться», — заявляет шестнадцатилетний Алёша Лосев, только ещё готовясь к главному своему жизненному выбору. И едва став студентом философского отделения историко-филологического факультета Московского Императорского университета, он делает откровенное признание: «Не появись этой страшной бездны между наукой и религией, я никогда бы не оставил астрономии и физики, и не променял бы их на эти бесконечные философские изыскания». Более того, он уже, оказывается, определил своё генеральное направление: «Начал одно большое сочинение по собственному почину: „Высший синтез как счастье и вéдение“, где доказываю необходимость примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности».
Сохранились лишь отдельные фрагменты этой юношеской, не лишённой романтического налёта работы, но даже приведённое авторское разъяснение задуманного её содержания позволяет сделать далеко идущие выводы. Во-первых, речь в ней будет идти о примирении как конечном результате (обратите внимание, не о подчинении, а именно, о примирении); во-вторых, о научном мировоззрении как единственно приемлемом критерии истины; в-третьих, о соединении областей психической жизни человека, которые в совокупности представляют собой целостную духовную культуру. К этому необходимо добавить, что автор находит объединяющие эти области начала:
«- общий источник: потребность совершенствования, жажда идеала, стремление к Творцу, любовь к Нему;
— одинаковые цели: постигновение трёх абсолютов: Бога, мира и человека; достижение известного идеала, нравственного и умственного (известного идеала, т.е. установленного Высшей Мудростью для данного фазиса развития мира и человека)».
Всё это означает, что восемнадцатилетний студент обладает замечательным философским чутьём, поскольку делает собственную заявку на преодоление секулярности в общественном сознании. Конечно, это требует решения задачи цельного знания, поставленной славянофилом Иваном Киреевским, и прямого осознания Всеединства, начатого Вл. Соловьёвым. Но сама проблема секулярности гораздо глубже.
В середине ХХ века о. Василий Зеньковский в своей фундаментальной «Истории русской философии» (доступной читателю в России она стала лишь в конце века) заявил, что ключ к диалектике всей русской философии следует искать именно в проблеме секулярности. Она не имеет в России столь глубоких корней, как на Западе, и явила себя здесь достаточно ощутимо как раз в плодах европейского Просвещения. Секуляризация — обмирщение целостной, религиозной в своей основе культуры, сопровождающееся её разделением на отдельные обособляемые друг от друга области. Здесь мирское, преходящее, врéменное отделяется от божественного, сакрального, вечного (именно отцы Церкви отождествили меру времени seculum — «столетие» с осознанием мирского существования).
Однозначного вывода о причинах секуляризации христианской культуры не существует. Заслуживает внимания мнение Бердяева, который считает, что она стала неизбежной в западнохристианском мире в конце Средневековья, когда выявилась неспособность человека построить Царство Божие лишь на духовной основе, отвергая своё природное начало, признаваемое падшим. Тогда творческие силы человека были выпущены на свободу, вследствие чего и все сферы общественной и культурной жизни перестали быть связанными, превратились в расчленённые и автономные. Но это же одновременно означало и поворот от духовного ядра во внешнее культурное выражение, переход от Божьего к человеческому.
Что же мы находим у Лосева? На протяжении всей своей творческой деятельности — от первой приведённой выше «заявки» до последних откровенных бесед на исходе жизни — он со всех сторон анализирует именно этот драматический переход от «Божьего к человеческому» — путь человека от Абсолютной Личности к себе самому как полностью абсолютизированной личности. В одном из исторических экскурсов Лосев обращается к наиболее мощному направлению, где этот переход получил многостороннее философское освещение. Это — германский имманентизм XVIII — XIX вв., основы которого закладывались задолго до этого мистикой Экхарта (XIIIв.) и богоборчеством Лютера (XVIв.). Превращение трансцендентного, то есть находящегося вне пределов суждения, за границей человеческого сознания и познания, в имманентное — пребывающее в сознании человека, соизмеримое с ним, означало вырождение христианского миропостижения, чья основа — неисповедимая тайна. Лосев перечисляет главные проявления имманентизма, выраженные в учениях выдающихся немецких философов об Абсолютном. Оно выступает у них, то как мистическая глубина индивидуальной души, то как предмет романтических чувств и исканий, то как рациональная схема логически построенных законов, то как произведение искусства, то как бессмысленная, но вечно жаждущая жизни мировая воля, то как возвышенная и моральная проповедь некоего мирового «Я». Но за всем этим стоит одно и то же: абсолют человеческой личности. Не удивительно, что такой идеализм протестантского толка позволил столь ценимому классиками марксизма-ленинизма материалисту Фейербаху поставить с ног на голову саму историю человеческой мысли, заявив: «Человек не понимает и не выносит собственной глубины и раскалывает поэтому своё существо на „Я“ без „Не-я“, которое он называет Богом, и „Не-я“ без „Я“, которое он называет природой».
Наконец, сама первичная интуиция текучести бытия, присущая основаниям мировых культур, выродилась уже в XX веке в экзистенциализм, абсолютизирующий само существование человека. Насколько далеко зашло это вырождение, видно из вывода писателя-экзистенциалиста Альбера Камю: «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии». Дальше, как говорится, идти некуда. Но всё это — не что иное, как итог многочисленных попыток решения секулярности в западной культуре, где абсолютизация человеческой личности означала полный разрыв с христианским благовестием. Лосевские же труды, как и сама его жизнь — яркое свидетельство верности ему.
У истоков лосевского мировоззрения
Как подступиться к Лосеву? Перечитать подряд изданные за последние годы его труды? Собрать всё, что написано о нём самом? Встретиться с теми, кому посчастливилось лично с ним общаться? Конечно, можно попытаться сделать всё это… А что, если начать совсем с другого? Совершенно ясно, что о созидательной силе творчества Лосева можно говорить бесконечно. К нему как нельзя полнее применим вывод Бердяева о творчестве как продолжении миротворения. Лосев действительно построил целое здание — от фундамента до крыши. Но при этом «бесконечные философские изыскания», о которых упоминал 18-летний юноша, к завершению его земного пути выразились всего в трех словах. Мы знаем об этом благодаря горячему почитателю Алексея Федоровича журналисту Юрию Ростовцеву. На его вопрос: «В чём ваша созидательная идея как философа?» последовал ответ: «Это православно понимаемый неоплатонизм».
Лосевский ответ, говоря современным языком, обладает колоссальной информационной свёрнутостью. В нём скрыт, несомненно, некий плодотворный синтез философских принципов поздней античности с вероучительными основами ортодоксального христианства. Выходит, чтобы развернуть ответ, то есть понять его, необходимо для начала перечитать гору историко-философской и богословской литературы? Ничего подобного: сам Лосев поможет избежать этого. Будучи не только гениальным мыслителем, но и прекрасным просветителем-популяризатором, он разработал собственный метод, который, по его же словам, сводится к следующему: «Пока я не сумел выразить сложнейшую философскую систему в одной фразе, до тех пор я считаю изучение данной системы недостаточным». Следуя этому прекрасному правилу, Лосев называет неоплатонизм учением о Едином, о Мировом Уме, о Мировой Душе и о Космосе. Неоплатонизм составил заключительную эпоху античной философии (III — VIIIвв.) и своим историческим названием обязан тому, что завершил учение Платона, жившего в IV в. до Р.Х., об идеях, хотя одним Платоном дело не ограничилось.
Поскольку система образования в советский период ни Платона, ни его последователей не жаловала как древнейших апологетов идеализма, несколько поколений россиян, включая ныне здравствующие, имеют о них, мягко говоря, весьма смутное представление. Лосев же не только отдаёт предпочтение Платону, обнаруживая у него начала диалектики, но и детально прослеживает развитие платоновской мысли; то же совершает он и по отношению к неоплатоникам. Более того, он подвергает тщательному анализу их многочисленных комментаторов и толкователей, высвобождая из-под многовековых наслоений-заблуждений чистую и ясную мысль, подобно талантливому реставратору древних картин, являющему миру их замечательную первозданность.
Послушайте, что у него получается! «Всего многотрудного и бесконечно разнообразного Платона я выражаю в одной фразе: вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит, то есть вообще не является вещественной». Разъяснения этой фразы оказываются, до смешного, простыми: идея (ΐδέα), по-гречески, означает «вид», «наружность», имея, таким образом, признаки тела. Так что платоновская «идея» действительно видится, но не физическим зрением, а умственным. Древние греки вообще считали, что глазами можно мыслить, и целиком оторванное для нас от чувств понятие «теория» для них означало «созерцание», точнее, то, что мы называем «вúдением».
В идее Платона заключена смысловая полнота вещи, то есть ответ на вопрос: «Что это такое?» Но это ещё не всё. Для идеи не существует течения времени, которое старит и разрушает вещь. Но ведь жизнь вещи — непрерывное изменение (становление); стало быть, платоновская идея вещи, разъясняет Лосев, оказывается хранительницей её жизненной силы, остаётся её вечной и порождающей моделью. Так что в платонизме идея действительна сама по себе, но так как она невещественна, то существует вне времени и вне пространства. Вы считаете это совершенно неправдоподобным? Но разве не точно то же относится, скажем, к сфере чисел, включая все операции с ними? Подумайте… Так что платоновский мир идей по праву оказывается в вечности и, конечно, имеет собственное (внепространственное) место — Платон называет его «идея идей».
Но миром идей великий философ не ограничивается. Платон первым в античности выдвигает категорию Единого, в котором воплощено абсолютное единство всего на свете. Лосев и тут старается облегчить нам с вами понимание. Всякая вещь, разъясняет он, имеет множество свойств и признаков, но всегда выше их. Дерево мы сперва понимаем как дерево, а лишь потом получаем возможность приписывать ему те или иные признаки. Но ведь то же относится и к миру в целом. Он выше всяких признаков и свойств, выше всяких идей и, по Платону, выше всего отдельного, будь то бытие, сущность, познание. Познавать — значит сравнивать. Но поскольку миру уже всё приписано, сравнивать его просто не с чем. Стало быть, он оказывается тем, что превыше всего. Этому и соответствует непознаваемое Единое, которое, впрочем, так и осталось у Платона лишь в виде категории.
Вот теперь можно вместе с Лосевым перейти и непосредственно к неоплатонизму. Его основатель Плотин через шесть столетий после Платона разработал учение о Едином как охвате всего существующего в одной неделимой точке, которая предшествует всякому бытию. Оно может восприниматься человеком лишь в нерасчленённо-восторженном состоянии — сверхумном экстазе. По Плотину, приблизиться к Единому (созерцать его) можно, если «самому отрешиться от чувственных предметов, которые являются последними из всех и перейти к предметам первичным; нужно быть свободным от всех пороков, ибо мы стремимся к Благу; нужно вернуться к своему внутреннему началу, и вместо того, чтобы быть множественным, стать единым существом». Свой экстаз Плотин определяет как απλώσις («упрощение»), в котором бытие сводится к абсолютной простоте.
Мировой Ум появился у неоплатоников благодаря Аристотелю, который платоновский мир идей («идею идей») назвал Нус (νόος — «ум»). Этот Нус мыслит сам себя и является самосознанием, то есть превращается в особое надкосмическое сознание. Но это, конечно, не всё. Платон, как вы помните, считал, что идея вещи, во-первых, существует; во-вторых, означает смысл вещи. Аристотель вслед за ним стал различать в своём Нусе бытийную (материальную) сторону и смысловую (идеальную). Получилось учение об умственной материи, которое неоплатоники также использовали. Но особо почётное место у них заняло расширение Аристотелем платоновского мира идей: он стал мыслить идеи не сами по себе, а в их обращённости к миру, как бы их заряженности миром. Это значит, что мир идей сам по себе является заданностью всяких материальных оформлений — потенцией, а в своей обращённости к миру — их осуществлением, названным Аристотелем энергией.
Завершающим для формирования целостного учения неоплатоников стало использование ими взглядов стоиков, представлявших философскую школу с семисотлетней историей. Ещё у Платона различалось бытие и становление: бытие существует само по себе, а становление — во всякий момент времени (всякая вещь непрерывно изменяется — она становится). В физических образах этот процесс нашел выражение у стоиков, создавших учение о первоогне и его эманации, то есть исхождении от высших сфер бытия к низшим с постепенным затуханием (душа человека согласно стоикам была не чем иным, как тёплым дыханием).
Лосев детально рассматривает то, что сделали далее неоплатоники. Они разделили эманацию на два потока: один, очищенный от всяких признаков материального начала, идущий от Единого, стал чисто смысловым становлением Мирового Ума; второй — материальная эманация стоиков — превратился в движущуюся идею, начало движения вообще для всех вещей — Мировую Душу. Она, как и Мировой Ум, имеет две стороны: одной она обращена к миру, другой — отвращена от него. В целом Мировая душа — связующее звено между сверхчувственным и чувственным миром. Результатом её вечной подвижности и является Космос. Сам он со всем своим содержимым — отражение и воплощение прежде всего Мировой Души, затем Мирового Ума и наконец Единого. Таким образом мироздание неоплатоников представляет собой строго иерархическую систему (от высшего к низшему), в которой гармонично сочетаются покой и движение, вещественное и смысловое (материальное и идеальное). Круг со сходящимися в центре лучами, который последний из неоплатоников-теоретиков Прокл назвал образом ума — простейший и исчерпывающий символ неоплатонизма.
Итак, Лосев приобщил нас к завершавшему тысячелетнюю эпоху учению. А далее он выявляет то, что определило его судьбу: «…Уже христианство стало государственной религией, уже гремели Вселенские соборы, а небольшая группа языческих философов создавала свою концепцию античности. Но дни языческой античности были сочтены, и эти же самые мыслители, так глубоко понимавшие сущность античной философии, всё-таки в конце концов пришли к тому, что всё это пустыня. Почему? Нет никого, раз нет личности и есть только что. Космос — это что, а не кто… Так кончились те светлые дни, когда человек молился на звёзды, возводил себя к звёздам и не чувствовал своей собственной личности».
Общеизвестно, что представлением о личностном начале человечество обязано ортодоксальному христианскому мировосприятию, основанному на вере в исторически конкретного Богочеловека, Которого Его человеческая природа роднит со всем человечеством, создавая тем самым мистическую общность — Богочеловечество. Вместе с тем Он остаётся извечно по Своей божественной природе Сыном Божьим, познаваемым, как нераздельное с Богом-Отцом Его Слово (Логос), стало быть, обращённой, как и Отец, ко всему сущему и причастному Ему Абсолютной Личностью — живым воплощением нерушимой суверенности и безграничной самоосуществлённости; идеалом Истины, Добра, Красоты.
Неоплатоники этого просто не могли ни почувствовать, ни осмыслить. Будучи непримиримыми врагами новой восходящей религии, они становились авторами самых злобных антихристианских трактатов. Для них Единое, объединявшее как всё разумное, так и всё неразумное, являлось одновременно и Благом, но оно никак не могло быть персонифицировано. «Для настоящего и правильного неоплатоника, — пишет Лосев, — христианство было просто атеизмом, поскольку христиане признавали какого-то непознаваемого Бога, превосходящего собою всё мироздание и в то же время оказавшегося простым человеком в условиях максимального человеческого унижения».
Непонятным, и просто несостоятельным Божественное личностное начало остаётся и для современной науки, существующей в условиях абсолютизации человеческой личности, которая уже давно сформировала само мировоззрение, что называется, «под себя». Так что до настоящего времени психологи, социологи и прочие «обществоведы» дружно сводят личность к некоему социальному понятию, определяя её как системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности, или что-то иное в том же духе. Но здесь нет исторической правды. Личность вовсе не продукт общественных отношений, не объект социологических изысканий и психологических тестов, а Бог, являющийся в течение двух тысячелетий воплощением и выразителем вселенского начала, мировой гармонии в одной из величайших мировых религий. Притом, это не некий объективный Абсолют, не всеобъемлющий Дух — понятие, выведенное философами-протестантами в период сумерек христианства, а Бог живой, воплощённый в человеческом облике, в конкретном историческом событии-предании.
Богословие Восточной Церкви явило миру тайну неисчерпаемости личности, использовав для её выражения греческое «ипостась» — то, что существует. Непознаваемая, сверхсущностная природа божества обнаруживает себя в своих исхождениях, в своих проявлениях. Именно в этих проявлениях и следует понимать Три Божественные Ипостаси, из которых первая познаётся как единство, начало и источник; вторая — как раздельная множественность и третья — как благодатное исхождение.
Вот мы и вышли с вами к тому месту, где происходит стык античного учения с троическим откровением христианства. Лосев не только обозначает этот стык, но и надёжно закрепляет его. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать всего пятнадцать страниц, составляющих раздел «Переход от античности к средневековью в тринитарной проблеме раннего христианства» из VIII (заключительного) тома его монументальной «Истории античной эстетики», вышедшего в свет уже после кончины автора. За бесстрастным изложением вы наверняка почувствуете тщательно скрываемую им от постороннего глаза неизбывную веру.
О судьбе, об истории, о Божьем Промысле
Время от времени на каналах ТВ появляется документальный фильм Виктора Косаковского «Лосев», и вы имеете возможность услышать, что говорил накануне своего ухода разгадавший нынешний век философ. Впрочем, в фильм вошла лишь малая толика того, что записал на магнитофонных кассетах участвовавший в съёмках Юрий Ростовцев, неизменный его собеседник. Прислушаемся к озвученным мыслям Алексея Фёдоровича о судьбе. Он разъясняет своему невидимому визави, что попытка понять мир неизбежно приводит к высшему началу, которое всем движет. А невозможность знать результаты самогó этого движения приводит к понятию судьбы. Весь вопрос в том, как относиться к такой непознаваемости: считать её просто неполной информированностью человека, или видеть за ней проявление непостижимой для него воли?
Позиция Лосева в этом вопросе ясна и недвусмысленна: «Я считаю, что раз есть мир, то существует он лишь потому, что есть цельность и полнота мироздания. А цельность и полнота мироздания — это Бог. Отсюда вывод: всё, что творится, есть воля Божия. Почему? А потому что в мире, так называемом, ничего, кроме Бога, и нет. Бог, таким образом, есть предельное обобщение мировых явлений, не больше того. Так что действительно каждый, и большой, и крупный момент в созидании мира, в выдвижении мира, несомненно, в конце концов, есть воля Божья, отчасти нами познаваемая. Но не совсем, потому что воля Божья относится ко всей бесконечности… Поэтому получается так, что человек и на высоте математики находящийся, и на высоте религиозной находящийся, всё-таки не может в абсолютном смысле предсказать то или иное явление. Так что в смысле неожиданности оно всегда момент судьбы в себе содержит…. Бог есть в конце концов Судьба для каждого человека и для каждой вещи. Почему? Потому что ты не знаешь намерений Божьих, плана управления миром ты не имеешь».
Посвятив десятки лет изучению античного миросозерцания, Лосев досконально знал и глубоко понимал всю богатейшую мифологию судьбы, проявленную в сочетании фатализма и героизма, присущего древним грекам. Но лично для него проблема судьбы определялась противоречиями, которые вскрывает христианское вероучение. Человек — существо тварное, и у него есть множество свойств, относящихся непосредственно к его тварной природе. Одно из главных природных свойств — собственная воля: стремление к самоутверждению, к приобретению и обладанию, к абсолютной независимости. Особенности проявления воли связаны с индивидуальными природными наклонностями, включая интеллектуальные способности. В соответствии с поставленными человеком целями воля может быть и доброй и злой. В непосредственном следовании своим природным побуждениям человек проявляет себя как индивид, но не как личность.
Всё, относящееся к человеческой личности, связано непосредственно с Абсолютной Личностью — Богом, Который сотворил человека по Своему образу и подобию — разумным и свободным. Стало быть, человек сам обладает возможностью выбирать: следовать (или не следовать) воле Божьей, то есть свободой собственной воли. Бог обращён к человеку, Он зовёт его, но этот зов требует свободного ответа. Порыв человека к Богу — это порыв любви и разума с возможностью выбора и отказа. Один из отцов Восточной Церкви, преп. Максим Исповедник (VII в.), называет свободу «волей выбирающей». Волящий свободный разум есть центр всего мироздания. Наделив человека свободой выбора, Бог никогда её не нарушает, но волю Свою продолжает творить. При этом для человека, глубоко верующего, самые трагические события, связанные с его собственной судьбой, наполняются высшим смыслом. Лосев в своём диалоге подтверждает это следующим примером: «Мне, допустим, оторвали голову во время автомобильной катастрофы. Что это такое? Это акт божественной любви ко мне. Значит, это нужно для моего вечного спасения. А почему? А потому что ты дурак. Эти вопросы „почему?“ в отношении Бога нельзя задавать».
Обратите внимание на эсхатологическое чувство Лосева. Еще в «Диалектике мифа» он писал: «Мы не ошибёмся, если скажем, что религия есть всегда то или иное самоутверждение личности в вечности». Конечно, Лосев никогда не пытался сам создавать какие-либо мифы, относящиеся к тому нетленному миру, в который он всегда глубоко верил. Можно считать, что достаточной мерой для его представлений служило суждение св. Иоанна Богослова: «Ещё не открылось чтó будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Сам же Лосев сопоставлял спасение с такой судьбой личности, «чтобы она уже не в состоянии была попадать в сферу бытия ущербного». Самым общим принципом религии он называет субстанциально-телесную утверждённость личности — это жизнь, цель которой — закрепление такой утверждённости личности в бытии вечном и абсолютном.
За строгими философскими умозаключениями Лосева, как и за популярными разъяснениями, скрыто одно и то же — всеобъемлющее чувство историзма. В нём судьба человека предстаёт как неповторимая точка на непрерывной линии Священной истории. Знакомо ли это чувство поколениям россиян, чьё образование сформировало бесконечно далекие от такого восприятия стереотипы? История всё ещё рассматривается прежде всего, как цепь событий в жизни общества, сменяющих друг друга на протяжении столетий. С начала 20-х годов прошлого века — в период насаждения исторического материализма — упорно разъяснялось, что такая смена подчинена строгим законам, подобным законам природы, поскольку сыном природы, её прямым порождением, является и сам человек. Такая история — всего лишь один из моментов в самой природе с её незыблемым царством необходимости: жёсткими пространственно-временными ограничениями и причинно-следственными связями; с непререкаемостью закономерностей, искусно уложенных в логико-понятийную систему. Здесь свобода всегда оказывается всего лишь познанной необходимостью. Такое всеобщее понимание свободы помогло связать ложной круговой порукой человека с природой в учении, целиком отбросившем всякую религию (вернее, попытавшемся навсегда занять её место). Его создатели, — Маркс с Энгельсом, — додумались до такого исчерпывающего определения: «Религия есть самосознание и самочувствование человека, который ещё не обрел себя, или уже снова себя потерял». Так что историзм историзму — рознь.
Источником лосевского историзма является христианское вероучение. Согласно Св. Писанию Бог ведёт с человеком диалог. Он начался с того момента, когда человек использовал свою свободу по собственному произволу: впал в грех, вкусив от древа познания добра и зла, и, тем самым, отдалился (отвернулся) от Бога. Искупительная жертва Иисуса Христа (Богочеловека) вернула тленному человеку возможность восхождения к Богу, соединения с Ним по Его энергии (благодати), соработничества с Ним (синергúи). Бог непрестанно сходит в мир, осуществляя Божественный Промысл: выполняя Свою волю, Он управляет падшим миром, не нарушая свободы человека. Но чем это может обернуться для общества, чьё сознание помрачено очередным лжеучением, и чья воля подчинена самомнению убеждённого в своей особой миссии правителя? Их общая судьба выражена словами Христа: «Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму» (Мф., 15,14).
Христианский историзм Лосева выражает достаточно ясно следующий его диалог с Юрием Ростовцевым:
Ю.Р.: Как объяснить все эти испытания, что выпали на долю вашего поколения и нашему Отечеству за последние десятилетия? То мы идём в одну сторону, то мы идём в другую.
А.Л.: Значит, Богу так надо.
Ю.Р.: Хорошо. Но как вы сами это можете объяснить?
А.Л.: Мы же знаем все причины: почему это делалось, какие люди выступали, какие тут были намерения и какое исполнение, какие планы. Что осуществлялось, что не осуществлялось. Это мы знаем, и мы исторически можем объяснить.
Ю.Р.: Но должен ли я понимать вас в таком случае таким образом, что вы рассуждаете как вольтеровские Кандид и Мартен, что мы живём в лучшем из миров и всё, что ни есть — к лучшему.
А.Л.: Да-да. Что ни есть, то к лучшему. Да-да. Только это не пошлое такое самодовольство, а это трагическое христианство.
Вероятно, не так просто согласиться с выводами Лосева, но, увы, он прав: трагизм самой истории обусловлен тайной свободы человека. Её разрешение и драматично, и трагично, потому что добро и зло (злая воля) обладают при этом равными возможностями. Всякий этап исторического развития — это встреча Божественного Промысла с проявлением человеческой «выбирающей воли». Насколько они совпадают, настолько и благоприятен для общества результат такой встречи. Неоднократно повторяемое несовпадение их исподволь лишает общество жизнестойкости и предопределяет его уход с исторической арены. Примеров на протяжении прошедших тысячелетий вполне достаточно.
Культивируемая в нашем обществе в минувшем веке философия истории породила и укрепила в сознании просвещённых его слоёв убеждение в независимости исторического процесса от каких бы то ни было религиозных представлений. Эту в корне порочную убеждённость продолжает прививать на всех уровнях и нынешняя система образования, порождая сплошь и рядом, по меткому выражению А. И. Солженицына, «образованцев». Даже отказ от навязываемой прежде обществу идеологии, замешанной на воинствующем атеизме, не вызвал пока ничего нового, кроме брожения умов. Это целиком касается и представлений о самом смысле исторического процесса. Неспроста считающий себя глубоко преданным православию Никита Михалков как-то заявил с телеэкрана вполне убеждённо и серьёзно: «Историю делают толкователи». Стало быть, он и не подозревает, что просто повторяет «зады» эпохи Просвещения (тогда считалось, что именно «мнения» и определяют ход истории). Но ведь даже в ХХ веке широко известный на Западе (а в последние годы и в России) английский историк Арнольд Тойнби решительно заявлял, что в основе истории лежит вселенский разум — божественный Логос, и сам ход истории всякий раз определяется Ответом на Вызов, то есть результатом диалога с Ним человека. Как видите, трактовка Священной истории христианства возобновляется снова и снова.
Жаль, однако, что менее известными, а то и вообще неизвестными не только на Западе, но и в самóй России остаются историко-философские открытия отечественных мыслителей. К ним как раз и относится Лосев. Он пошёл гораздо дальше Тойнби, который, исходя из своей концепции, вынужден был подчас весьма произвольно толковать действительный ход событий, что приводило его к неоднократно отмечаемым критиками противоречиям. Для Лосева непререкаемой истиной является невозможность проникнуть в тайну Божественного Промысла, но такой же истиной для него становится проявление этой тайны в саморазвивающейся исторической идее. Здесь он, конечно, развивает убеждение своего учителя Вл. Соловьёва: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».
Тут вы можете воскликнуть: «Опять разговоры о „русской идее“! Не надоело?». Представьте себе, нет. Надоело другое — бездарные кампании последних десятилетий по поиску или (и того лучше) по изобретению «общенациональной» идеи; болтовня и писанина на эту тему. И ведь всё это, в лучшем случае, попытка найти сиюминутный ответ на сегодняшний Вызов, почти по Тойнби (тот, правда, предпочитал обращаться к прошедшим событиям). Чаще же просто пытаются угадать, какая именно идея могла бы максимально активизировать общественную энергию. А ведь проявиться, по Соловьеву, должно в России то, «что Бог думает о ней в вечности». Стало быть, поискать следы этой мысли Бога следовало бы, по крайней мере, на каких-то многовековых отрезках истории. Да и почему надо вести речь об одной лишь России?
Обвиняемый в махровом идеализме, всего через год после возвращения «из мест не столь отдалённых», Лосев пишет: «Для меня последняя конкретность, это — саморазвивающаяся историческая идея, в которой есть её дух, смысл, сознание, и есть её тело, социально-экономическая действительность». То есть тяжеловесной глыбе марксова исторического материализма он противопоставляет ясно и чётко осмысленный исторический идеализм, позволяющий выявить саморазвивающуюся историческую идею, выделив её из конкретного исторического процесса. Значит, к стратегии общественного развития можно подходить сегодня с открытыми глазами!
В борьбе за смысл
В 1985 году, когда повеяли ветры перемен, встречи с Алексеем Фёдоровичем начал с большой настойчивостью добиваться совершенно неизвестный ему сотрудник Института мировой литературы им. Горького Виктор Ерофеев. Он задумал во что бы то ни стало взять интервью у слывущего отшельником общепризнанного знатока прошедших эпох и полон решимости разобраться наконец, почему тот так благосклонен к бездушной античности, но совсем не жалует гуманизм Возрождения.
И вот цель достигнута — Лосев согласился принять гостя. Однако собеседники мало-помалу сворачивают на дела и на людей гораздо более близких по времени. Диалог оказывается трудным, и это неудивительно: впервые появившийся в доме человек, с одной стороны, учтивый и скромный, с другой — довольно настырный, пытается вызвать битого жизнью профессора на откровенность. А у того нет весомых гарантий, что это вообще не заранее задуманная провокация со всеми вытекающими последствиями. Но если в конце концов необходимое доверие и было установлено, осталась другая трудность, преодолеть которую так и не удалось. Сам Ерофеев считал, что всё дело заключалось во внутренней борьбе и противоречиях, переживаемых его собеседником.
В действительности произошло совершенно другое — встреча не совпадающих в своих основах мировосприятий. Впрочем, Ерофеев и не отрицает того, что они с Лосевым оказались людьми «из разных миров». И хотя интервью завершилось успешно, а его публикация в журнале «Вопросы литературы» приоткрыла дверь в мир Лосева, факт несовпадения был налицо. Это проявилось уже при обсуждении названия беседы. Профессор предложил озаглавить её: «В борьбе за смысл» и настаивал на своём. Критически настроенному литератору, возможно, почуявшему в таком заглавии застарелый дух воинствующего материализма, с трудом удалось уговорить упрямца согласиться на умиротворяющее: «В поисках смысла».
Сейчас можно достаточно обоснованно утверждать, что такой заголовок не мог удовлетворить Лосева по одной простой причине: поиски истоков смысла им самим завершились полной его победой ещё в давние 30-е годы. Для него, убеждённого, что жизнь сама по себе — полная бессмыслица, всё вокруг, тем не менее, обладало внутренним смыслом, было «чревато смыслом» (любимое лосевское выражение). Для самогó Лосева уже много десятилетий задача заключалась лишь в том, чтобы сделать видимыми, ощутимыми, понятными для других сами эти истоки. Но обо всём этом на момент беседы, помимо него, не ведала ни одна живая душа. Не узнал об этом и Виктор Ерофеев, который и по сей день продолжает собственные поиски смысла, то в самóй России, то за её пределами, правда, теперь уже в качестве плодовитого писателя, публициста, телеведущего. Сам же Лосев, без сомнения, готов был говорить на исходе жизни именно о своей борьбе за смысл и, вероятно, с той же горячностью, что и в далекой юности, когда она приобретала в русской философии форму острой схватки между абстрактным ratio и конкретным Логосом. Но мог ли он быть услышан и понят в середине 80-х прошлого века? Да и к сегодняшнему дню изменилось ли хоть что-нибудь? Попытаемся разобраться.
В начале было Слово. Кто только ни использовал это евангельское откровение? Даже варианты стали предлагать. Доктор Фауст у Гёте в совершенно протестантском духе утверждает: «В начале было дело». А блистательная Майя Плисецкая в полном соответствии со своим профессиональным мироощущением однажды торжественно изрекла: «В начале был жест». Конечно, подобные заявления — не что иное, нежели заблуждение. Но послушайте научившихся цитировать Св. Писание наших словесников — от школьного учителя до академика — и вы убедитесь, что они имеют в виду Слово исключительно в качестве языково-грамматической формы. И беда даже не в том, что им остались неведомы сами основы христианского благовестия, а в том, что их авторитет способствует сохранению заблуждений в общественном сознании.
Написанное на греческом и затем переведённое на церковно-славянский Евангелие от Иоанна начинается с откровения έν αρχή ήν ο Λόγος. Если вы откроете греческо-русский словарь Вейсмана, хорошо известный гимназистам и студентам лет сто тому назад (в 1991 вышло его репринтное издание), то насчитаете около сорока (!) значений λóγος и среди них, между прочим, «мнение», «определение», «понятие», «разум», «смысл». Это значит, что приведённая выше трактовка «слова» -«логоса» просто безграмотна. Замечательно, что можно апеллировать к Св. Писанию, и что годы, когда в России это было невозможно, уходят всё дальше в прошлое. Но ведь и толковать его всякому на свой лад принято лишь в странах христианского мира, где укоренилась протестантская традиция. Россия никогда к ним не принадлежала. Для неё верность преданию Православной Церкви означает не только строгое соблюдение церковного канона верующими мирянами, но и сохранение общей историко-культурной преемственности. В Россию пришли из Греции через Византию (минуя латинское посредничество Европы) высокая риторика — торжественный стиль (витийство), многокорневые словообразовательные модели («цело-мудрие», «благо-воление», «мило-сердие» и т.д.), наконец, смысл переведенных с греческого на церковно-славянский понятий. И всё это бережно хранилось долгие века. Неспроста выдающийся филолог Сергей Аверинцев, — ученик Лосева, — уделявший много внимания этой проблеме, назвал слияние русской самобытной речевой стихии с эллинистическим красноречием «константой русской литературной культуры». Несомненно, тесная историко-культурная взаимосвязь сохраняется и в смысловых эквивалентах обоих языков.
А что же сам Лосев? Оставаясь в цитадели воинствующего атеизма, он пытается привлечь внимание к истокам смысла, обращаясь, конечно же не к церковному преданию (это смертельно опасно), а непосредственно к греческому языку. Для этого Лосев готов воспользоваться страницами самой что ни на есть партийной по духу периодики (тем же журналом «Коммунист»), готов согласиться на самое идеологически выдержанное заглавие своего интервью, к примеру: «Формирование марксистско-ленинской культуры мышления». Между тем трактовка «мысли» и «мышления» в философском и психологическом словарях, составленных в лоне этой сáмой «культуры», поражают своей отвлечённостью и откровенной беспомощностью. Вот примеры: «Мысль — основная единица, „клеточка“ мышления». «Мышление — высший продукт особым образом организованной материи — мозга».
Что же противопоставляет этому Лосев? Всего лишь досконально изученное, да нет, пожалуй, интуитивно чувствуемое им мировосприятие древних греков, для которых λόγος — нечто цельное, совмещающее слово и мысль: «Такая словесная мысль всегда была образной, картинной, как бы смысловым изваянием обозначаемых мыслью вещей, а соответствующим образом понимаемое слово всегда необходимо оказывалось мыслительно насыщенным и как бы словесным сгустком мысли. Да, да, да! Тут-то и коренится тот стихийный греческий материализм, о котором мы часто говорим, но который редко представляем себе в подлинно греческом и, я бы сказал, в художественно изваянном виде».
Так-то! Вечно подозреваемый (и не беспочвенно!) в тайных и явных симпатиях идеализму Лосев оказывается на поверку искренним защитником материализма… Есть чему удивляться! Но ведь дело вовсе не в тех надуманных, отвлечённых абстракциях, которые породила некогда протестантская философия «вне веры», и на которых со временем сама стала «ломать копья», дойдя до абсурда в своей марксистской модификации. Речь у Лосева идёт об образном мышлении древних греков, для которых λόγος был одновременно и материальным — видимым (слышимым) словом, и идеальным — умственно-содержательным смыслом.
Можете не сомневаться в том, что православное понимание Лосевым неоплатонизма, как и всего явления античности в истории человечества, опиралось на глубокое знание им всего святоотеческого наследия. То, что он открыто высказывал о «логосе», опираясь на миропонимание древних греков, представляло собой лишь «верхушку айсберга». Смысл — вовсе не то значение слова, вещи, которые приписывает им обыденное сознание, либо даже самое утончённое научное мышление. Конечно, представление о смысловом изваянии древних греков помогает избавиться от мёртвой абстракции рассекающих его определений, сделать грандиозное явление смысла ясно видимым. Но ведь сам логос-«cмысл» уходит в непостижимые глубины бытия, в неисповедимую тайну миротворения.
Для высокоавторитетного в православии прп. Максима Исповедника в «логосах» вещей — их творческих идеях — проявляются Божественные воления. Всякая тварная вещь имеет точку соприкосновения с Божеством: это её идея, её причина, её «логос», который одновременно есть и цель, к которой она устремлена. Рассматривая природу тварных вещей, пытаясь проникнуть в смысл их существования, мы, в конце концов, приходим к Логосу, Которым всё было сотворено, Который представляется Божественным средоточием; очагом, откуда исходят творческие лучи — частные «логосы» отдельных существ, к Которому, в свою очередь, тварные существа устремляются как к своей конечной цели.
Возможно, кое-что у Максима Исповедника напомнило вам чуть ранее упоминаемых неоплатоников? Ничего удивительного: в мистическом богословии отцов Восточной Церкви IV–VIII вв. в той или иной мере проявляется православно понимаемый неоплатонизм. Так что созидательная идея лосевской философии — действительно продолжение замечательного пути, от которого, к сожалению, до настоящего времени остаётся отвращённым общественное сознание в России.
Краеугольным камнем научного познания (и это особенно выделялось в советской науке) являлось его полное отмежевание от любых направлений, питаемых религиозным чувствованием, верой в Бога. И это несмотря на то, что некоторые начальные посылки, постулаты, рабочие гипотезы, предлагаемые конкретными авторами и, стало быть, имеющие изначально субъективный характер, расцветали как в естественных, так и в общественных науках подлинно религиозным мифом, превращались в догматы, находя опору в самой настоящей вере в очередного человекобога. Впрочем, западная наука, при всей своей амбициозности, всё же не стала совершенно порывать с религией, стараясь сохранить с ней некий симбиоз в сфере этики и даже, в какой-то мере, в онтологии. Эйнштейн даже как-то высказался в этой связи: «Религия без науки слепа, а наука без религии хрома». В советской науке подобная ниша начисто отсутствовала: основы научного коммунизма полностью отвергали саму возможность такого «противозаконного» дуализма.
Конечно, всё это, надёжно закреплённое и многократно повторяемое системой образования произвело труднообратимый сдвиг в общественном сознании. И было бы наивным считать, что одно лишь провозглашение «свободы совести» cпособно повернуть его в сторону основ православной культуры, её бесценного интеллектуально-духовного наследия. Может быть, именно многолетняя лосевская борьба за смысл, осознанная сейчас, создаст необходимый импульс для такого поворота? Но сначала надо понять, почувствовать пафос этой беспримерной борьбы, что потребует значительных усилий, потому что условия, в которых она велась, понемногу начинают забываться.
Вот Лосев сопоставляет диалектику и здравый смысл, конечно, не забывая время от времени упоминать о незыблемости закона единства и борьбы противоположностей. Но обратите внимание на вывод: «…И всякая отдельная вещь есть неделимое единство составляющих её отдельных и делимых признаков; и весь мир, взятый в целом, есть вещь как неделимое единство всех составляющих его признаков, свойств, частей и вообще явлений».
Почему-то у автора столь обобщающего вывода не нашлось здесь места для этой самой борьбы. Действительно, кому бороться между собой: признакам, свойствам, частям; вообще явлениям? Так что в выводе Лосева угадывается вовсе не гегелевский закон диалектики, а вселенское всеединство Вл. Соловьёва. Впрочем, сам Лосев не оставляет места недомолвкам. В другом месте он предложит своё суждение о культуре мышления: «Мыслить предмет — это уметь отличить его от всего другого, но вместе с этим отличением также и соединить его со всем прочим, преодолевая на этом пути противоречия и противоположности».
Вам ясно, что «противоречия и противоположности» относятся, по Лосеву, вовсе не к самому предмету, а лишь к пути его осмысления? Сам по себе предмет (вещь) — цельнораздельное единство; мыслить предмет, то есть выявить его смысл, значит воспроизвести в мыслях это единство. И весь лосевский пафос направлен на выражение того, что смысл существует вовсе не как плод человеческой мысли, а сам по себе, как и вещь. Этот факт должен быть осознан и признан. Только и всего.
Тайна опального профессора
Начало трудовой «перековки» 38-летнего профессора из Москвы, приговорённого решением коллегии ОГПУ к десяти годам лагерей, оказалось малопродуктивным. Его двухнедельная работа мокрыми баграми в октябрьскую непогоду на лесосплаве по реке Свирь была прервана скрутившим пальцы ревматизмом. Затем врачебная комиссия (третья по счёту) учла, наконец, давнюю болезнь глаз заключённого и произвела над ним «актирование», то есть перевела в инвалиды. Ему даже представилась возможность выбрать себе работу, подходящую для философа, привыкшего размышлять в уединении: посменно сторожить лесоматериалы в зоне строящегося Беломоро-Балтийского канала, разгуливая вдоль реки то днем, то ночью. Позади остались семнадцать месяцев пребывания во внутренней тюрьме Лубянки (из них четыре с половиной — в одиночке), изнурительные допросы и оглашение сурового приговора. Но именно здесь, в сырой, по ночам битком набитой спящими людьми лагерной палатке, пришла к нему впервые надежда на скорый возврат к письменному столу, которой, впрочем, не раз ещё предстояло чередоваться с отчаянием. А пока…
12 октября 1931 года заключённый 2-го отделения Свирлага Алексей Фёдорович Лосев пишет Валентине Михайловне Лосевой (своей Ясочке), заключённой Сиблага: «…Нам предстоит ещё большой путь. Я только что подошёл к большим философским работам, по отношению к которым всё, что я написал, было только предисловием…» Можно лишь догадываться о грандиозности замыслов автора письма, если учесть, что в написанное им до ареста входит целых восемь фундаментальных трудов, изданных в 1927—1930 гг. Вообще-то их содержание не только не согласуется с маркистско-ленинской философией, но, по существу, противостоит ей. Зато они наполнены глубокими идеями, сближающими между собой науку, религию, искусство, — следовательно, весьма интересуют общественность.
Почему же об этих планах остаётся только догадываться? Ведь не пройдет и двух лет с момента написания этого письма, как Лосев действительно возвратится к своему письменному столу в квартире на Воздвиженке, и снова его Ясочка окажется рядом. Да, всё будет именно так, но… ни одной строчки не дадут больше опубликовать профессору Лосеву целых двадцать лет. Да и о самих границах научных интересов, разрешённых ему отныне, он узнает от функционеров Секретариата ЦК ВКП (б): Лосеву предписано впредь заниматься античной эстетикой и мифологией, держась от философии как можно дальше.
Жестокая опала рассекла судьбу Алексея Федоровича гигантским разломом. Под угрозой физического уничтожения он вынужден принять навязанные ему правила игры. Даже получив после смерти Сталина возможность публиковать свои новые работы, он больше не пытается бросить прямой вызов бездушной идеологической машине. Как-то уже в весьма преклонном возрасте профессор в минуту откровенности обронил: «Не знаю, может быть теперешние кусачие выпады тоже ведут к высылке…» Его не покидает ощущение зыбкости своего положения; оно и не удивительно: официальное решение о реабилитации А. Ф. Лосева появится лишь… через шесть лет после его кончины. Труды, изданные им до ареста, так и оставались под запретом; к рукописям, написанным сразу после возвращения из мест заключения, он сам больше никогда не возвращался, упрятав их подальше «в стол». Ему навсегда перекрыт доступ в Академию наук; всего два неполных учебных года (1942—1944) он вёл преподавательскую деятельность в стенах МГУ, после чего был изгнан оттуда «как идеалист». Так что, добыв в самом расцвете творческих сил золотые самородки новых знаний, Лосев был напрочь лишен возможности отдать их на пользу людям.
И всё же он готов к действиям в любых условиях. Неуёмная жизненная энергия, неиссякаемый творческий потенциал находят выход в создании им по окончании вынужденного молчания (то есть, когда ему уже минуло шестьдесят) около пятисот (!) научных работ, включая несколько десятков монографий, по эстетике, мифологии, античной культуре, теории литературы, языкознанию и, главное, монументальной, восьмитомной «Истории античной эстетики». Он готовит аспирантов, принимает экзамены, борется с подозревающими «крамолу» редакторами своих работ, опираясь во всех делах исключительно на беззаветно преданную Азушку (Азу Алибековну Тахо-Годи), которую Валентина Михайловна на смертном одре (она скончалась 29 января 1954 года) просила не оставлять Алексея Федоровича, быть всегда с ним. Будущим исследователям творчества Лосева предстоит совершить весьма необычное дело: измерить тот колоссальный и неблагодарный труд, на который решился ученый, тайно превращая в течение десятилетий добытые ранее самородки в золотоносный песок и затем с предельной осторожностью, скупыми порциями рассыпая его по страницам своих трудов, которые он, окончательно ослепнув, вынужден был надиктовывать. Казалось бы, сделано всё, что в человеческих силах, и даже больше. Но на девяносто пятом году жизни, за несколько месяцев до кончины, Алексей Федорович произнесёт в отчаянии: «Нет, ничего не сделано, ничего не успел сделать!.. Погибла жизнь…»
Попытка понять причину столь неожиданной самооценки неутомимого труженика мысли возвращает нас к драматическому стыку событий, приходящихся как раз на сорокалетие Лосева (именно тогда он получил, наконец, возможность вернуться из Прионежья в Москву). Накануне, всё ещё оставаясь в мучительном неведении относительно разрешения на возвращение, он пишет жене, к тому времени уже находящейся дома: «Почему хочется и мыслить, и писать, и говорить другим, общаться? Потому что я чувствую себя на манер беременной женщины, которой остается до родов несколько часов. Меня схватывают спазмы мыслей и чувств, целой тучи мыслей и чувств, бурлящих и кипящих в душе и ищущих себе выхода вовне, жаждущих родиться и стать живыми организмами, продолжающими свою сильную и бурную жизнь вне меня, объективно, на людях, в истории. Но если уже заранее становится известным, что этих родов не будет, что своих книг я не могу написать, так как погубил зрение <…> а если напишу, то не смогу их издать по невежеству или слепой злобе людей, — спрашивается: что делать дальше и куда девать свои неродившиеся детища, как осмыслить явную бессмыслицу — для меня — такого существования? Ответ один: пусть его осмысливается само как хочет! Философ должен сохранять спокойствие, ибо — „если есть что-нибудь одно, то всё иное (слышишь? именно всё иное) тоже есть (или возможно) “. Вот и хватаюсь теперь за то одно-единственное, что уже действительно никто не сможет отнять, если сам не отдашь, это — за спокойствие и „равный помысел“ ко всему. Пусть его „оформляется“, как хочет!»
Что имеет в виду Лосев? Неужели всего лишь художественную прозу, — своеобразную «философскую беллетристику», работа над которой увлекла его на последнем этапе жизни в местах заключения и затем достаточно активно продолжалась, примерно, год по возвращении в Москву? Но ведь ясно же, что в ней нашёл, скорее, выражение некий преизбыток творческих сил автора, нежели его главное дело! Напрашивается другая догадка… Что, если упоминаемый в письме, написанном за два года до этого, «подход к большим философским работам» уже завершился прямым прорывом неутомимого мыслителя в новое миропостижение, и оно само теперь властно требует от его обладателя установить прямую связь с людьми, войти в историю?
А ведь Лосев действительно так и не издаст до конца жизни ни одной книги, в которой его собственное мировидение получило бы целостное философское оформление, стало достоянием общественного сознания. Не это ли и явится истинной причиной его отчаяния и сетований накануне ухода?..
Но может он всё же успел ещё до окончательного запрета на занятия философией родить хотя бы одно такое дитя; спрятал его подальше от чужих глаз, а потом, уже не надеясь на приход лучших времён, вообще запретил себе даже упоминать о нём? Такое предположение представляется довольно правдоподобным, особенно после одной находки.
В 1990 году Аза Алибековна изъяла из архива Лосева явно относящуюся к началу 30-х годов объёмистую незавершенную рукопись без названия. Впрочем, вспоминает она, папка с рукописью однажды попалась ей на глаза ещё при жизни Алексея Федоровича, и на её вопрос, что это, он ответил как-то многозначительно: «А это „сáмое самó“». Именно под таким названием рукопись и была опубликована через четыре года издательством «Мысль» в одном из сборников лосевских работ вместе с другими его «ранними» трудами. Выход в свет работы «Сáмое самó» был встречен научными кругами (как естественников, так и гуманитариев) дружным молчанием. Где уж тут говорить о внимании широкой общественности! Конечно, в существующих условиях непрекращающегося брожения умов, когда ниспровергатели основ возникают, как грибы после дождя, а научный Олимп занял круговую оборону от посягательств на устоявшиеся истины, трудно было ожидать чего-либо иного. Но всё же, всё же…
Между тем лосевский подход до крайности прост: всякая конкретная вещь хранит непостижимую тайну. Вещь можно назвать, изобразить, дать ей множество определений, мысленно представить, наконец, просто ткнуть в неё пальцем, но всё это лишь беспомощные попытки выразить её абсолютную индивидуальность — сáмое самó, которое, увы, остаётся вне пределов наших мыслей и чувств. Стало быть, и ответить на вопрос: «Что это такое?», имея в виду абсолютный смысл вещи, просто невозможно. И это вовсе не признак какого-то невежества, а всего лишь «учёное незнание». Именно оно и приводит Лосева к эпохальным открытиям-откровениям.
Пусть сáмое самó конкретной вещи остаётся сверхмыслимой тайной. Зато можно совершенно точно утверждать, что одна вещь отличается от другой; стало быть, основой смысла должно быть различие. Но ведь во всякой целой вещи её различия слиты, соединены в тождество. Выходит, что такое смысловое соединение является необходимым условием для существования смысла всякой вещи. Действует же оно мгновенно, с неотвратимой и бесконечной силой. Точно так же действуя, проявляются вовне и все различия, которыми обладает любая вещь, выражая при этом её абсолютную индивидуальность — сáмое самó. Но такое выражение, в котором смысл внутреннего и внешнего совпадает, — не что иное, как символ. Стало быть, и реальность, в которой это происходит, является символической. А ведь это и есть та самая живая действительность, в которой мы с вами существуем, — смысловое вселенское Всеединство.
Выразительно-смысловая символическая реальность открыла Лосеву путь к задуманному в ранней юности «высшему синтезу». Однако запрещающий «кирпич», поставленный невежественной рукой в сáмом его начале, вынудил Лосева не только навсегда отказаться от движения по этому пути, но и никому о нём не рассказывать. Жизнь приучила Алексея Фёдоровича молчать о главном. Иногда это было молчание не гонимого властями учёного, а верного священным обетам отшельника. Впрочем, сдерживали профессора и вездесущие охотники до чужих мыслей. Как-то в откровенной беседе на замечание о своей замкнутости он ответил: «Давно замкнулся. Потому что я когда-то выступил, а навстречу только клевета, использование моих мыслей. Делали на мне карьеру многие…». Но вот он решается в ходе одного из поздних интервью открыто сказать о главном итоге своей работы: «…У меня есть одна… формула. Она гласит, что сама действительность, и её усвоение, и её переделывание требуют от нас символического образа мышления…». Вы, вероятно, помните, что Лосев умел сводить целые фундаментальные учения к одной фразе, одной формуле. Это именно такой случай: попытка назвать своё учение. Лосев прямо заявляет, что сама действительность символична и познавать её нужно по-новому.
Дело было в начале 80-х. И что же, отнеслись к этому заявлению со всей серьёзностью? Стало оно предметом обсуждения в Академии наук или хотя бы послужило поводом для дискуссии в центральной прессе? Да ничего подобного — это был глас вопиющего в пустыне. Конечно, ниша, предоставленная правящим режимом Лосеву, была всегда ему тесна, но вне её он воспринимался советским бомондом со своими «мифом», «числом», «именем», «личностью», «смыслом» в лучшем случае в качестве юродивого.
А ведь его давний прорыв в выразительно-смысловую символическую реальность открывал подлинные чудеса, не снившиеся не только авторам «безумных теорий» в физике, благословляемых некогда Нильсом Бором, но и самым крутым нынешним фантастам. Одно лишь смысловое соединение, осуществляемое вне пространства и времени, позволяет человеку ощутить свою истинную причастность к всюдности и вечности. Оно проявляется в произведении чисел и в любовном влечении, во всемирном тяготении и в обращённости Бога к человеку. Куда до него поражающей ныне воображение виртуальной реальности, создаваемой «чудесами» самой современной компьютерной техники!
Итак, начала нового, глубоко научного мировоззрения были заложены в минувшем столетии, но так и не стали в нём достоянием человечества, а сам автор их считал себя «сосланным в двадцатый век». Он не успел передать нам из рук в руки свою главную тайну, но и не унес её с собой. Она продолжает и сегодня ждать своего часа.
Притча о стоптанных галошах
Предания связывают подчас прозрения великих мыслителей с простыми вещами и событиями: Архимед открыл свой знаменитый закон, находясь в ванне с водой; Ньютон осознал существование всемирного тяготения, когда на голову ему свалилось яблоко. Не исключено, что главное открытие Лосева свяжут когда-нибудь с его изношенной парой галош. Сам он, по крайней мере, даёт для этого реальный повод, заявляя: «Может быть, вам и не интересны мои стоптанные галоши. А мне это очень интересно, когда я вижу, что других галош у меня нет, а на дворе дождь и слякоть, а денег на покупку галош тоже нет. Галоши, товарищи, это тоже вещь, тоже какая-то индивидуальность, тоже какое-то сáмое самó. Вот на этих вещах я и познаю, что такое сáмое самó».
Обращение к обыденным общеизвестным вещам является для Лосева принципиальным: он считает, что неприступная тайна сáмого самогó выступает на них с большей очевидностью. Нелишне будет добавить, что это же заодно даёт возможность приобщить к основам миропонимания людей, пусть и не обладающих глубокими системными знаниями, но зато склонных к любомудрию, а таких в России всегда хватало. Насколько это важно для Лосева, видно из его письма к жене, написанного во время пребывания в заключении, в котором он с удовлетворением сообщает о своём успешном преподавании арифметики в лагерном ликбезе. «Солидных людей», которые его за это высмеивают, считая ликбез несовместимым с его мировоззрением, он называет «безнадёжно мрачно-озлобленными на всю жизнь людьми». «Мы с тобой, — завершает он, — имеем совершенно иное философски-историческое чутьё».
Лосев никогда не воспринимал философию как сухую рационально-теоретическую форму мировоззрения. В одной из своих последних работ он выразил собственное мнение, приведя высказывание Бердяева: «Как жаль, что философия перестала быть объяснением в любви, утеряла Эроса, превратилась в спор о словах». Лосев руководствуется своим чутьём, предлагая зафиксировать ряд положений, которые вообще не связаны ни с какой философской системой. План его очень прост: сначала выбрать из философских учений то, что является для них наиболее общим, а затем ввести принцип, который превратит эти общие моменты в новое мировоззрение. Но годится ли всё общее для такого серьезного дела? Оказывается, нет. Лосев отмечает, что многочисленные философские системы полагают вещь именно как вещь, а потому не отражают живую действительность и являются абстрактными. Для него же вещь есть прежде всего именно она сама. Казалось бы, невелика разница. Ничего подобного — именно с неё-то на самом деле и начинается принципиальное расхождение в миропостижении.
Лосев прямо заявляет, что утверждение «вещь есть вещь» полностью отгораживает нас от мира самóй конкретной вещи, и нам остаётся ограничиваться лишь представлениями и понятиями о ней, доверяясь исключительно своим чувствам и разуму. Естественно, ничего плохого в этом нет. Чувственный опыт с его наглядностью и разум (рассудок) с его рациональностью мы и применяем ко всему вещному миру, как в сугубо житейской практике, так и при специфическом научном подходе, где практика в той или иной мере сочетается с теорией. Полезность этого легко проверялась Лосевым на собственной паре галош — весьма незаменимой вещи в 30-годы. Обладателю галош достаточно было лишь взглянуть на них, а для верности ещё и пощупать, чтобы убедиться: галоши стоптаны — их пора сменить. Что же касается научного подхода, то ведь благодаря именно ему и ничему иному была отлита на фабрике «Красный треугольник» эта самая пара некогда новеньких галош. С такими доводами невозможно спорить.
Но ведь Лосев и не спорит; он лишь заявляет, что при всём при этом вещь сама по себе остаётся непонятой. По существу же он предлагает искать истину в той сфере, которая представляется здравому житейскому смыслу нереальной, а, главное, бесполезной. Попытаемся всё же, отбросив всякую мысль о полезности, последовать за Лосевым.
Сохранить конкретную вещь в живой действительности можно, считает он, лишь признав в ней наличие сáмого самогó, для чего им и предлагается в качестве примера представление об уже знакомой нам стоптанной галоше. У главных составляющих такого представления — «галоши» и «стоптанности» — нет ничего общего. Действительно, галоша — не «стоптанность» (она может быть и не стоптанной), а «стоптанность» не есть галоша (стоптанным может оказаться и сапог). И если они образуют целостное представление, значит их связывает что-то третье, не являющееся ни галошей, ни «стоптанностью». Вот это-то третье, заявляет Лосев, мы и называем сáмым самúм стоптанной галоши. Здесь уже всего два признака вещи свидетельствуют о его наличии. А вообще сколько бы таких признаков, свойств, отличий и т. д. мы в ней ни обнаружили, свести к ним самý вещь невозможно. В то же время все они сливаются в то, что уже не содержит никаких различий (в целую вещь). И это следует признать как факт, который опровергнуть невозможно, какое бы мировоззрение за ним ни стояло.
Но ведь в сáмом самóм не просто слиты признаки вещи — оно воплощает её абсолютную индивидуальность. Правда, одинаковых вещей на свете бывает великое множество (хотя бы тех же пар галош одного размера). Как тут говорить об абсолютной индивидуальности? Между тем её нетрудно обнаружить в том, что присуще всякой вещи — в её существовании. Неповторимой оказывается сама история вещи — цепь непрерывных изменений, составляющих её существование, и это не что иное, как жизнь вещи. Конечно, жизнь лосевской пары галош несопоставима с жизнью их владельца, но присуща она им обоим. Такой, вот, вывод.
Получается, что вещь не может быть сведена лишь к веществу, образующему её телесную форму, — она обладает тем, что обычно относят к существу, то есть вещь действительно живет. Современный научный подход такой вывод отвергает как нереальный, мистический. Но что такое «мистика» вообще? Согласно «Философскому словарю» начала 90-х — это «религиозно-идеалистический взгляд на действительность, основу которого составляет вера в сверхъестественные силы». Тут, как говорится, и сказке конец.
Между тем самобытная русская философия, чьим основам Лосев оставался верен всю жизнь, была именно мистической. В своей книге, посвящённой Вл. Соловьёву, кстати, вышедшей в свет лет на десять раньше упомянутого «Словаря», он даже привел характеристику, который тот дал ей в одной из своих самых ранних работ: «Предмет мистической философии есть не мир явлений, сводимых к нашим ощущениям, и не мир идей, сводимых к нашим мыслям, а живая действительность существ в их внутренних жизненных отношениях; эта философия занимается не внешним порядком явлений, а внутренним порядком существ и их жизни, который определяется их отношением к существу первоначальному».
Здесь упоминается «существо первоначальное», то есть Бог, однако, нет и речи о «сверхъестественных силах». Стало быть, мистичность имеет вовсе не тот смысл, который приписывает ей дух воинствующего атеизма. Мистика — прежде всего неисповедимая тайна. В самобытной русской философии это тайна Бога, не подлежащая разгадке какими бы то ни было человеческими знаниями; ей соответствует учёное незнание. Но от этого она не перестает оставаться действительной и, в соответствии с восточными святоотеческими традициями, естественной. Разрешить её действительно невозможно; впрочем, Лосев вовсе не собирается это делать да и вообще не упоминает всуе Имя Божие. Он лишь утверждает, что такая тайна и сообщима человеку как тайна; сáмое самó вещи и представлено им как явление именно такой тайны.
Лосевский подход принципиально отличается от кантовского, который стал фундаментом мировосприятия для западноевропейской мысли. У Канта «вещь в себе» так и остаётся непознаваемой. Но поскольку она появляется на пространственно-временнóй сцене, человеческий разум воспринимает сам факт её явления, формализуя его с помощью системы понятий и определений, которую он создает для такой цели — и только. У Лосева же неразрешимая тайна сáмого сaмогó вещи выражена вовне и это выражение — символ, несущий на себе смысл внутреннего.
Вернёмся, однако, к надёжной паре лосевских галош. Упоминая впервые об их сáмом самóм, Лосев, конечно же, имел в виду именно пару галош как нечто целое, хотя левая галоша отличается от правой, и уже поэтому каждая из них обладает собственной индивидуальностью. Но ведь, надев галоши, сам их владелец вместе с ними тоже становится неким целым, и притом абсолютно индивидуальным. И вообще своё собственное сáмое самó имеет любая совокупность вещей, располагающаяся всевозможными способами в пространстве и времени. Его наличие хорошо прослеживается по известному стихотворению Милна «Дом, который построил Джек» в превосходном переводе Маршака, где с домом последовательно связываются пшеница, синица, кот, пёс, корова и т. д. Обратите внимание: связь между ними создаёт вовсе не человек, а сама действительность, и связь эта, как нетрудно понять, всеохватывающая.
Но тогда вполне закономерным становится обобщающее заключение, предложенное Лосевым: во-первых, все вещи вместе образуют единое конкретное целое, которое с полным правом можно назвать абсолютным всем; во-вторых, это абсолютное всё имеет абсолютное сáмое самó; наконец, в-третьих, каждая отдельная вещь, так же как и все вещи, взятые вместе, есть не что иное, как символы этого абсолютного сáмого сaмогó.
Последний пункт, безусловно, нуждается в разъяснениях, и мы, конечно, находим их у Лосева. Греческое συμβάλλω означает сбрасывать в одно место, сливать, соединять; так что для понятия «символ» вполне объяснимыми в применении к какой-либо вещи будут значения совпадения, объединения. А ведь любая, чувственно воспринимаемая вещь, вполне резонно заявляет Лосев, еще что-нибудь да значит; всё та же галоша, к примеру, не просто определённой формы изделие из резины, но (и это, пожалуй, для нас главное) предмет обуви; стало быть, совпадает со своим значением, составляет с ним одно целое и, значит, является символом. Тем более верно утверждение, что каждая вещь — символ своего сáмого самогó: ведь именно в нём вещь как раз и есть она сама. Но поскольку всякая вещь входит в абсолютное всё, её сáмое самó тоже как-то входит в абсолютное сáмое самó. Последнее одинаково содержится во всех вещах, являясь именно поэтому абсолютным сáмым самúм. А если так, то каждая существующая вещь есть символ абсолютного сáмого самогó. Она одновременно и сразу оказывается, как различимой чувственно и/или мысленно, так и неразличимой, находящейся вне пределов не только чувственного восприятия, но и самóй мыслимости.
Поскольку сáмое самó не есть ни понятие, ни вообще что-то отличное от чего-нибудь или в себе расчленение, утверждает Лосев, к нему не может быть применён рациональный подход, логическое заключение. Акт схватывания и полагания сáмого самогó является специфическим, в нём отсутствует рациональность, но нет и слепой иррациональности. Это очень зрячий акт, считает Лосев, он открывает очи ума на вещь как на неё саму. Её идея (смысл, значение) слиты с вещественной формой (материалом, веществом); это снимает противоречия материального и идеального, созданные абстрактными философскими методами. Вещь есть всегда она сама, понимать ли её как некое сáмое самó (тогда она будет дана в свёрнутом виде) или как символ (тогда она будет в расчленённом, развёрнутом виде).
В одной неделимой и живой вещи совпадают конечное и бесконечное. Для доказательства этого Лосев опять-таки использует свои замечательные галоши, сношенные всего за три месяца после их приобретения. Попытки разобраться в том, как это случилось, с помощью обычных логических приёмов, приводят к сплошным противоречиям. Нельзя сказать, что галоши сколько-нибудь сносились от первого шага, сделанного в них при примерке в магазине во время покупки. Но тогда нет оснований утверждать, что их снос вообще начинается с какого-либо шага. Следовательно, такой подход сам по себе ошибочен: придется считать, что снос начинается с первого шага. Но какой должна быть ширина такого шага — конечный сдвиг, вызывающий минимальный снос, то есть реальная его мера? Её просто невозможно установить, утверждает Лосев, поскольку она бесконечно мала. Отсюда его совершенно неопровержимый вывод: в пределах трёх месяцев существования галош содержится бесконечное множество пространственно-временных сдвигов. А это значит, продолжает он, что в живых вещах бесконечное и конечное просто неразличимы. Вне зависимости от какого бы то ни было мировоззрения они полностью совпадают в одной и той же вещи, которая поэтому может сразу считаться и символом конечного, и символом бесконечного.
Лосев не раз ещё будет возвращаться (и мы вместе с ним) к самим истокам бесконечности, но первое обсуждение, приведённое выше, он связал с простой, обыденной вещью и сделал это, согласитесь, мастерски, виртуозно.
«Каков он, этот мир? Вот он каков…»
Своим первым учителем Лосев называет Камилла Фламмариона, широко известного в России в начале прошлого века популяризатора знаний о Вселенной, чьими книгами зачитывался четырнадцатилетний гимназист: «…Всё рисовал в таких тонах поэтических. И приучил меня вот к этому образу мышления, возвышенному и очень широкому. Это был чистый поэтический восторг перед абсолютной Вселенной, перед Мирозданием». Такое восприятие сохранилось у Лосева и после того, как соединилось с глубоко философским осмыслением. И ему оказались чужды жёсткие правила, которые предлагала усвоить уверенная в собственной непогрешимости наука: «Учебники читал, когда-то хотел сам быть астрономом, даже женился на астрономке. Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что Земля движется и что неба никакого нет… Читая учебники астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и ещё готов плюнуть в физиономию. А за что?».
Впрочем, Лосев вовсе не ограничивается критикой учебника астрономии — он имеет в виду всю науку, всё еще не подозревающую, что, будучи реально творимой живыми людьми в определённую историческую эпоху, она всегда питается той или иной мифологией, черпая из неё свои исходные интуиции. Вы можете соглашаться с ним или нет, но вряд ли найдёте где-либо более точное, чем приведённое несколькими строчками выше описание зловещего явления — отчуждения, охватившего в завершившемся веке то, что именуют мировым сообществом, причём, далеко не последнюю роль в его распространении сыграла именно наука.
Однако критика должна быть конструктивной. Кант, к примеру, до того, как выступить со своей критикой чистого и практического разума, предложил гипотезы возникновения планет Солнечной системы, существования Большой Вселенной и заодно высмеял увлечение просвещенных современников мистикой. Лосев космогонических гипотез не выдвигает, но для начала призывает нас просто обратить внимание на окружающий мир: «Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир?». Ответы его очень своеобразны: «На все эти вопросы я могу только сделать указательный жест, и — больше ничего. Вот он, этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом. Но можем ли мы сказать что-нибудь большее?».
А что? Если довольствоваться убеждением «мир есть мир» (точно так же, как «вещь есть вещь»), то такой ответ действительно становится исчерпывающим. Перечислять свойства мира при этом — дело неблагодарное и к тому же совершенно бесполезное. Не так давно претендующая на истину в последней инстанции марксистско-ленинская философия предлагала воспользоваться всеохватывающим понятием «материя». Но что это, как не философская абстракция? Никто из нас никогда не имел дела с «материей» (разве что с тканой), но всегда с конкретной материальной вещью, то есть состоящей из какого-то материала. Стало быть, и мир, состоящий из бесконечного множества конкретных вещей, также предельно конкретен.
Но всё же ответ Лосева, выраженный лишь указующим жестом, вряд ли вас удовлетворит. Впрочем, он и сам на это не рассчитывал, убедительно доказав, что ответа на все эти вопросы относительно мира в целом просто нет. Речь может идти лишь о тайне мира, об абсолютной его самости (сáмом самóм).
Так оно и есть — это подтверждает история мировых культур. Фундаментальные религиозно-философские построения, лежащие в их основаниях, сопровождавшие их расцвет и закат, являются, как показывает Лосев, в той или иной мере развитыми учениями об абсолютном сáмом самóм. То, что не находило применения по отношению к обыденным вещам, становилось единственно необходимым при постановке целей весьма значительных и даже грандиозных. Происходило это всякий раз потому, что для человека внешний, чувственно и мысленно воспринимаемый им мир оказывался всего лишь проявлением тайны его непознаваемого начала, выходящей за пределы воображения и мышления. И хотя в достаточно развитых учениях есть место для материального и духовного, для восхождения человека от низшего к высшему, недосягаемой вершиной в них остается непостижимое, становящееся предметом веры.
Но вот какое открытие делает Лосев. Оказывается, все известные нам из истории религиозно-философские системы всегда базируются только на отдельных первичных интуициях, выражающих абсолютное сáмое самó. Именно такие интуиции, утверждает Лосев, наполняют жизненно-историческим содержанием все ступени этих систем. Мировые культуры так несхожи между собой, потому что многолико проявление абсолютного сáмого самогó: каждая из них воспринимает его тайну по-своему.
Выявленные закономерности Лосев демонстрирует на конкретных примерах, начав с древнеиндийской культуры. В Упанишадах, — разделе священных Вед, — свою полную непознаваемость проявляет Брама-Атман, абсолют браманизма: он выше того, что есть, и того, что нет; он везде и нигде; в каждой душе и ни в какой; он только не то, не то, не то… Между тем самó его существование выражает древнеиндийский дух — интуиции чувственной текучести. Отсюда учение о прельщении Брамы Майей («Иллюзией») и тройном результате их брака: творении мира, его сохранении и его уничтожении. Тяжёлый сон и самозабвение Брамы означают творение мира, а его постепенное пробуждение в растениях, животных и наконец в человеке тождественны с последовательным умерщвлением, уничтожением мира. Затем Брама вновь попадает в объятия Майи и снова всё повторяется. Так что живой лик Брамы выражает всего лишь абсолютизацию чистой текучести мёртвого вещества, её обожествление. Это мироощущение и вылилось в просветление основателя буддизма Гаутамы (избавление от страстей, желаний, страданий) и достижение нирваны, которая, по Лосеву, всего лишь субъективно-ощутительная сторона Брамы-Атмана.
Если попытаться самостоятельно применить лосевский подход к основаниям миропостижения в другой великой культуре Востока — древнекитайской, нетрудно будет обнаружить те же особенности. Здесь первичной интуицией также оказывается чувственная текучесть, воплощённая в Дао. Будучи источником всего, Дао растекается повсюду, то есть остаётся неопределённым началом и, безусловно, носит характер абсолютного сáмого самогó. Однако текучесть эта обладает некоторой упорядоченностью — направленностью: Дао — это путь и пребывание в пути. Его нельзя свести к отвлеченной идее — путь необходимо пройти. Динамичность Дао проявлена как в стремлении к совершенствованию культуры тела (боевые искусства), так и в центростремительном характере бессмертных афоризмов Конфуция (одно из значений «дао» в китайском языке — «словесное сообщение»). Живой лик этого первоначала, в отличие от своего древнеиндийского «собрата», весьма беден — он не опирается на четкие мифологические образы, не требует яркого мистического озарения. Однако это не помешало ему быть основой мощной мировоззренческой традиции, определившей общеэтические нормы и смысл жизни отдельного человека на целые тысячелетия.
Обратимся теперь к выводам самогó Лосева о миропостижении древних греков. Он исходит из того, что их основная интуиция — оформленность бытия в виде тел. Текучесть здесь упорядочена радикально: она расчислена, размерена, ограничена. Первичный символ античного духа, по Лосеву, — телесное существо, живое и разумное, хотя ещё и не личность. Однако попытка обнаружить живой лик непостижимого начала, которое этот дух символизирует, в богатейшей античной мифологии, ни к чему не приведёт. Абсолютное сáмое самó выявляется впервые в Едином Платона, который показал, что Единое («одно») самó по себе не может быть определено. Для того, чтобы о нём можно было мыслить, требуется обязательно «иное» (другое): тогда оно превращается в «одно сущее», то есть в то, что представляет собой всякое тело. К Единому у Платона восходит и идея Блага, где слиты бытие и знание, справедливость и красота. Далее, как вы уже знаете, неоплатоники связали это Единое с восходящими ступенями в своём учении, а его постижение — с экстазом, где познавательные акты сливаются в одну точку знания.
Лосев утверждает, что в античном принципе оформленности совмещены безличность живого тела и упорядоченная текучесть мёртвого вещества, а это не что иное, как число, естественным началом которого является единица. Таким образом Единое Платона и неоплатоников оказывается математическим выражением абсолютного сáмого самогó, а также эстетическим, поскольку оно ещё и Благо.
Глубоко принципиальным следует считать выявление Лосевым главных особенностей выражения абсолютного сáмого самогó в христианстве как в самостоятельной мировой культуре. Здесь учение об абсолютной самости со всей полнотой излагают Ареопагитики (богословские трактаты, создание которых наука относит к V веку), где на уровне высокой риторики (Лосев именует это «мистической музыкой»), закладываются основы апофатического богословия («апофасис» — отрицание). Бог — непознаваем. Он есть ничто из всего, поскольку Он сверх всего; первопричина всего. В Ареопагитиках воспевается высшее бытие, представляющее собой Личность, неведомую, но интимно-близкую, от Которой исходит живительная энергия — благодать. Вместо буддийской жажды самоусыпления здесь стремление достичь высших основ бытия, общаться с Личностью, Которая знает Себя и Сама способна к общению. Отвлечённая философия с её абстрактными категориями в этом случае становится просто излишней.
Несмотря на поразительное сходство экстаза неоплатоника Плотина с откровениями автора Ареопагитик, между миропостижением того и другого зияет пропасть. Она обнаруживается, когда безликому Единому противополагается наивысочайшее Имя — Святая Троица. Лосев со своей позиции православно понимаемого неоплатонизма разъясняет, что хотя в античном опыте были уже продуманы основные категории диалектики, всё это происходило без участия Личности. Первоединое, которое превыше всего, здесь не имеет имени, поэтому оно не имеет мифа, не имеет Священной истории, то есть всего того, что присуще Личности. Оставаясь в пределах миропонимания, порождённого интуицией тела, хотя бы и одушевлённого, неоплатоники оказались глубоко враждебными христианству с его первичной интуицией Абсолютной Личности. Сама текучесть бытия — Её проявление (промышление), которое человек способен осмыслить в той или иной мере.
Следуя лосевским выводам о сообщимости неисповедимой тайны, можно попытаться определить личность как тайну абсолютного сáмого самогó, явленную в неисчерпаемости «Я». Естественно, она никоим образом не может быть сведена к человеку, являясь прежде всего тайной Абсолютной Личности. Но поскольку сам человек создан по образу и подобию Божию, он также несёт в себе личностное начало.
Таким образом, следуя за Лосевым, мы обнаруживаем в истоках мировых культур различные проявления тайны единого начала — абсолютного сáмого самогó. При этом фундаментом мировидения автора служит православная позиция апофатизма — неисповедимости тайны, выходящей за пределы человеческого разума. Кстати, нам с вами предоставляется возможность сопоставить с этой позицией совершенно иную — противоположную. Она вырисовывается из концепции немецкого социального философа и историка Макса Вебера, оказавшей существенное воздействие на общественное сознание в странах Запада в прошедшем столетии.
Исходная идея социальной философии Вебера — концепция рациональности, корни которой он обнаруживает в самих религиозных началах. Согласно Веберу, в мировой истории существует три типа рациональности: индийский (индуистско-буддистский), китайский (даосистско-конфуцианский) и западный (иудаистско-христианский). Соответствующая каждому из них религиозная картина мира формирует основополагающий мотив человеческих действий: индийская ориентирует на бегство от мира; китайская — на приспособление к миру; западная — на овладение миром.
Особое место Вебер уделяет рациональности западного типа, где благодаря протестантской рационализации религиозной картины мира происходит лишение его покрова тайны. Итог — обессиливание религии и, следовательно, угроза существованию самогó типа рациональности. Спасение автор видит в возрастании роли науки, которая одна сможет задавать направление рационализации в радикально «расколдованном» мире. Что же касается нравственных заповедей Св. Писания, то их роль, согласно Веберу, выполнит формируемая всё той же наукой «этика ответственности». Выводы делайте сами.
Первые старты
В 1983 году в Мюнхене вышла на немецком языке книга Лосева «Диалектика художественной формы», положив начало переизданию его «ранних» работ. Инициатором этого благородного дела стал известный историк философии Арсений Гулыга, а само издание осуществили немецкие почитатели Лосева — профессора Хагермейстер и Хаардт. Их подарок к 90-летию Лосева содержал дополнительный сюрприз: в списке его трудов, помещённом в книге, значилась неизвестная доселе в окружении Лосева статья «Die russische Philosophie».
В результате осуществлённого, что называется, по горячим следам поиска в научном зале «Ленинки» был обнаружен лишь недавно перемещённый из спецхрана экземпляр сборника «Rußland: Geistesleben, Kunst, Philosophie, Literatur» («Россия: духовная жизнь, искусство, философия, литература»), изданный в Цюрихе в 1919 году. В нём страницы 79—109 действительно занимала работа Лосева, по форме напоминавшая очерк. Сам автор от каких-либо комментариев по поводу неожиданной находки отказался. Повторно эта работа увидела свет во 2—3 номерах журнала «Век ХХ и мир» за 1988 год, правда, в сокращённом виде. В полном объёме «Русская философия» была опубликована через два года после этого в сборнике лосевских материалов (бесед, воспоминаний, статей, писем), составленных Виктором Ерофеевым и названном «Страсть к диалектике».
Удивительная судьба этой работы побуждает обратиться ко времени создания её Лосевым. В активе молодого учёного к этому моменту были уже и устные доклады перед весьма солидной аудиторией и печатные работы. Но всё это ни в коей мере не исчерпывало его интересы, направленные к «высшему синтезу» — преодолению разобщённости между наукой, религией, искусством, философией. Мощный потенциал ищет выхода, в то время как его обладатель пока всего лишь учитель гимназии с университетским дипломом, хотя и готовящийся к получению профессорского звания.
В начале 1918 года Лосев предпринимает попытку организовать вместе с высокоавторитетными Вячеславом Ивановым и Сергеем Булгаковым издание книжек «Духовная Русь» религиозно-философского характера, не содержащих никаких партийных точек зрения и никакой злободневности. Сам Алексей Фёдорович на склоне лет вспоминал: «…Идея была замечательная, и сорганизовались быстро. Меня поставили в виде делового лица во главе этого безнадёжного, как оказалось, предприятия. И хотя, как я помню, получил от многих заинтересованных в подобных книгах лиц поддержку, дальше издательских коридоров дело не пошло…»
Сейчас можно с достаточно большой степенью достоверности выявить истинные причины неудачи, постигшей издателей, — для этого достаточно обратиться к воспоминаниям Вячеслава Ходасевича. Известный поэт, прозаик, критик серебряного века, ставший на короткое время чиновником новой власти, со знанием дела рассказывает о первых успехах, достигнутых зарождающейся большевистской бюрократической машиной в борьбе с инакомыслием.
Сразу после октябрьского переворота правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания любой книги требовалось получить особый «наряд» на типографию и бумагу. Выдачу этих «нарядов» осуществлял Подотдел учета и регистрации при Отделе печати Московского Совета. И хотя прямая цензура была введена большевиками гораздо позже (в конце 1921 года), они, прикрываясь наступившим «бумажным голодом», получили возможность с самого начала своего правления отказывать в издании неугодной им литературы. Так что нетрудно объяснить безрезультативность в этих условиях любых попыток осуществить издание книжек «Духовная Русь», безусловно, враждебного воинствующему атеизму содержания.
Многие авторы, которым было что сказать в тот трудный год, несомненно, искали любую возможность для публикации своих работ, в том числе, и за пределами России. Лосевский очерк — прямое тому подтверждение. Возможно, он был заказан составителями сборника, в выходных данных которого значится В. Эрисман-Степанова — жена известного немецкого философа. Как бы то ни было, важен сам факт выхода в свет работы молодого, ещё не обретшего имени в научном мире, но переполняемого собственными творческими замыслами учёного, который собирается пролить свет на самобытную русскую философию.
В чём же, по мнению автора, её самобытность? Прежде всего — в отсутствии логической последовательности и системной упорядоченности, то есть именно того, с чем принято связывать философию как средство для приведения мыслей в порядок, и в чём подаёт пример немецкая философия, целиком состоящая из завершённых систем. В России же философия — интуитивное, можно сказать, мистическое творчество, не стремящееся к такому порядку, да и не видящее в нем особой необходимости. Конечно, справедливости ради, следует отметить, что ей всё же понадобился толчок со стороны: идеи французского Просвещения пробудили в XVIII веке философские интересы в России. Правда, отмечает Лосев, здесь слово «вольтерьянец» относилось, скорее к повседневной жизни, а не к философии: так обычно называли склонного к материализму вольнодумца. Впрочем, вскоре всё это было вытеснено влиянием на умы набиравшем в первой трети XIX века силу немецким идеализмом.
Однако уже в 40-е — 60-е годы в качестве его противников выступили славянофилы. Пройдя предварительно школу самогó немецкого идеализма, они противопоставили его логическим построениям веру, которую питает не философская система, а цельное знание, основанное на органической полноте жизни. Славянофильство представляло собой национально-романтическую идеализацию старины; оно исходило из того, что Россия верна цельной истине христианской Церкви, стало быть, свободна от расслаивающего духа рационализации, и её философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Прямой противоположностью славянофильству стало «западничество», влиятельное в России в 40 — 80 годах, не признававшее за русской культурой никакой оригинальности и призывавшее к полному культурному воссоединению с Западом. Это направление носило исключительно публицистический характер, и ему далеко было до построения какой бы то ни было философской системы.
В 60-е — 70-е годы в России распространились пришедшие из Германии материализм и позитивизм, причем, по старорусскому обыкновению они обрели вполне практическое выражение. Наконец, сменившее материализм и западничество чисто идеалистическое направление, развившееся в конце XIX — начале XX века, также бесконечно удалено от систематизации, если она вообще возможна из-за широты поставленных задач и всеохватности философских откровений. Даже наиболее выдающиеся представители этого направления смогли наметить всего лишь общий план системы. У тех же их последователей, которые решили вести глубокую системную проработку задач, сами задачи вскоре сузились до пределов чистой теории познания.
Вместе с тем отсутствие завершённых философских систем в России компенсируется её художественной литературой, в которой часто разрабатываются основные философские проблемы, естественно, в исключительно практической, ориентированной на жизнь форме. То же самое следует сказать и о связанной с действительной жизнью публицистике, так что гениальных философов нужно искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных партий.
Итак, вместо чисто интеллектуальной систематизации взглядов, присущей европейской философии, в России развивается интуитивное, мистическое познание сущего в символе, образе, посредством воображения и внутренней жизненной подвижности. Корни таких принципиальных отличий Лосев обнажает, используя близкие ему самому взгляды страстного поборника самобытной русской философии Владимира Эрна.
Вл. Эрн рассматривает историю развития миропонимания на Западе как движение к господству рационализма. В борьбе с мистицизмом Средневековья новая философия оторвалась от хаотических основ сознания — иррациональной питающей почвы. Но она также оторвалась и от неба — вершин разума, живой гармонии цельного логоса и музыкального народного мифа. Поэзия в новой философии понимается как вымысел и развлекательность; природа — как иррелигиозное, механическое целое; бытие Божие — как логически обоснованная система понятий. Так как в основаниях всего лежит человеческий разум («рацио»), то всё то, что не укладывается в его границы и схемы, объявляется вымыслом, субъективным построением; мир становится бездушным и механическим. Рационализм отказывается от богатства индивидуальной, живой личности: она для него — всего лишь простой пучок перцепций (восприятий). Он мыслит вещественными категориями; вещественность занимает господствующее положение во всех учениях, вытекающих из новой философии.
Истоками русской философской мысли являются греко-православные представления. Их основание — не субъективно-человеческий, а объективно-божественный принцип. Он воплощен в Логосе. Поэтому русская философия в противоположность западноевропейскому рационализму провозглашает восточнохристианский логизм. Здесь познание Истины мыслимо лишь как осознание своего бытия в Истине. Теория познания в логизме не статична, как в рационализме, а динамична, она требует восхождения, и на вершинах познания находятся не ученые и философы, а святые. Высшее свое осуществление логизм находит в прагматике христианского подвига.
В атмосфере логизма центральное место занимает личность, поскольку всё существующее воспринимается здесь не иначе, как в категории личности. Она противостоит мёртвой концепции вещи в рационализме. Сама чистая вещность — лишь призрак, скрывающий тайный Лик мира от глаз падшего человека. В тайне своего личного бытия, в неисчерпаемости своей индивидуальности он оказывается гораздо ближе к постижению мира и к Богу, нежели при использовании отвлечённого понятия мёртвой вещности.
Естественно, достичь согласия между такими взаимоисключающими принципами невозможно, так что столкновение «рацио» и Логоса являются наиболее характерной чертой русской философии. Таков вывод самого Лосева.
Будучи ограниченным размерами статьи, автор знакомит читателя лишь с наиболее яркими, на его взгляд, мыслителями в истории самобытной русской философии, давая предельно краткую характеристику их учений. Это странствующий философ XVIII века Григорий Сковорода, осознающий свою миссию «Сократа на Руси»; Иван Киреевский и Алексей Хомяков, первыми выразившие дух России и её историческое призвание в основах славянофильства; созидатель мощного философского направления Владимир Соловьёв, которого его последователи назвали «русским Платоном» (из них Лосев уделяет внимание лишь Булгакову и Бердяеву). Он также не забывает упомянуть философов, как занимающих промежуточное положение между самобытной русской философией и западноевропейской, так и тех, кто находится непосредственно в русле последней, считая, однако, их работу бесплодной (впрочем, он выражает надежду на признание ими великой проблемы Логоса и поворот к ней).
Лосев приходит к важному историческому сопоставлению, анализируя главное направление развития самобытной русской философии в XIX веке. Начинающие его славянофилы основную проблему видели в антитезе «Восток и Запад», не покидая пределов русского духа и находя необходимую и достаточную опору для себя в традициях прошлого. Завершающим этот период Вл. Соловьёву и его ученикам этого оказывается недостаточно. Повинуясь откровениям Матери-земли, они в то же время проникнуты тревогой за будущее мира, им ближе мистический символизм Апокалипсиса. Идиллический романтизм и апокалиптическое предчувствие конца — так обозначает Лосев начало и конец этого стержневого направления.
Автор не скрывает своих собственных симпатий и антипатий — они то и дело проглядывают на протяжении всего очерка. Следовательно, чёткость его философской позиции не вызывает сомнений. Нет сомнений и в том, что здесь Лосев выражает и, по-видимому, вполне сознательно, предчувствия собственных грядущих прозрений и творений. Вот как он завершает свой обзор: «Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалиптической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения, то есть новых догм».
Но ведь всего через пять лет после появления из-под пера Лосева такого заключения, он завершит свой первый замечательный труд «Философия имени», затем одна за другой увидят свет следующие, столь же фундаментальные его работы. Вот и возникает весьма обоснованное предположение, что в обзоре «Русская философия» Лосев обозначил и собственную стартовую позицию, с которой начал своё беспримерное восхождение.
Сквозь строй рационалистического воинства
Вчитываясь в первый лосевский труд, опубликованный за рубежом, диву даёшься уверенности автора в своей правоте. Он не просто говорит о борьбе идей, он готов к ней — и уверен в победе. Молодой философ с воодушевлением цитирует соотечественников, хранящих верность Логосу, и не шибко жалует своих именитых коллег, следующих в русле западной философии.
А ведь борьба идёт непростая. Особую драматичность придаёт ей то, что, с одной стороны, Логос не может быть воспринят во всей полноте без средств рацио; с другой, — ограниченная лишь этими средствами западная мысль сама лишена возможности ощутить основания Логоса. В итоге самобытная русская философия, противопоставляя протестантскому рационализму православный логизм, в котором гармонично сочетаются вера и знание, использует саму отвлечённую западную философию как средство своего собственного развития и, в конечном счёте, творчески преодолевает её. Противная же сторона просто неспособна на адекватный ответ.
Но, как оказалось, она и не помышляла о какой-либо защите, тем более, о победе, «ибо нельзя победить логизм неосознанностью и бесчувствием». Зато, не видя и не чувствуя врага «как внутреннюю данность», будучи уверенной в собственной самодостаточности, западная философия вскормила и вспоила позитивизм как образ мысли, а прагматизм — как образ жизни; взлелеяла цивилизацию-монстра — «овеществленный рационализм».
Впрочем, последнее определение выводит нас за рамки лосевской работы непосредственно к уже упоминаемому Вл. Эрну. Используя в своей статье отрывки из его книги о Гр. Сковороде, Лосев, вне всякого сомнения, был хорошо знаком и с другими трудами Эрна, прежде всего, со сборником статей «Борьба за Логос», изданном в 1911 году. Несомненно, он разделял его взгляды на обновление православного сознания с использованием философских принципов, на благотворную роль имяславия в христианизации ума, на необходимость поисков познавательных начал в античной философии.
Конечно, было бы слишком самонадеянным предполагать, что они оставались единомышленниками во всём. Нетрудно себе представить, что Лосев, глубоко понимая основы германской культуры, не мог разделять слишком жёсткую критику их Эрном. Скорее всего, он отрицательно отнёсся к его докладу «От Канта к Круппу» на заседании Религиозного общества памяти Вл. Соловьёва в октябре 1914 года (то есть вскоре после начала войны с Германией), возмутившему университетские круги в Москве. Можно лишь гадать, как складывались бы в дальнейшем их личные отношения, поскольку на момент создания Лосевым своего очерка Эрна уже не было в живых — он скончался весной 1917 года от болезни почек в возрасте тридцати пяти лет.
Лосев публично не относил себя, насколько это известно, к прямым последователям и, тем более, к ученикам Эрна. Поэтому нельзя утверждать, что в «Русской философии» он осознанно выступает как его духовный наследник. Проще было бы сказать, что полный творческих замыслов молодой ученый принял как руководство к действию идеи и выводы безвременно ушедшего из жизни философа-борца, спроецировав их на свои собственные стремления, чувства, интеллект, веру.
Впрочем, скорее всего, у Лосева была своя, достаточно глубоко продуманная программа действий, необходимых для достижения «высшего синтеза», и его дальнейший путь к Истине просто совпал с тем, который стратегически наметил Эрн. И тогда это результат собственного мистического его видения — откровения. Верность обоих мыслителей основам православия в святоотеческих традициях, их неизменная устремлённость к Сыну Божию, дают основания предполагать, что путь, осуществляемый Лосевым (и ранее провидчески намеченный Эрном), несёт на себе знак Божественного Промысла. И, конечно, путь этот — подвиг. Более того, Эрн считает, что он должен быть двойным: «подвигом проникновения в природу вещей и подвигом проведения основ логизма сквозь строй всего рационалистического воинства».
Но именно это и совершает Лосев на протяжении своей долгой и трудной жизни. Он действительно осуществил требуемое, по Эрну, «творческое развитие того глубочайшего умозрения, которое начала великая Эллада, которое продолжил христианский Восток и которое было почти совершенно устранено с магистрали философской мысли современной Европы». Результатом такого творческого развития и стало его прямое прозрение в природу вещей. Несколько иначе, нежели предполагал Эрн, обстояло у Лосева дело с использованием средств, накопленных западной философией. Ему, судя по фундаментальным «ранним» работам, вообще не пришлось вести предсказываемую Эрном борьбу «с внутренним врагом собственной постоянной греховной пленённости рационалистическим маревом». Этого «марева» для него просто не существовало, хотя диалектический метод рационалиста Гегеля стал в начале основой всей его методологии.
Названное ошибкой гегелевской философии ещё Хомяковым «отождествление живого бытия с понятием» изначально было отвергнуто Лосевым. Так что бороться ему пришлось с врагом никак не внутренним, что он и выразил совершенно недвусмысленно: «Соблазны гегельянства я очень хорошо знаю. У Гегеля я настолько же учился, насколько с ним всегда и боролся». В то же время освоенный им метод оказался универсальным. Не удивительно, что на Лосева пытались наклеить то один ярлык, то другой, столь же упорно, сколь и безуспешно. Он чувствовал себя, как дома, в любой, самой изощрённой философской системе. Его мысль легко, как нож в масло, входила в неё и так же безо всяких усилий покидала, как только отпадала надобность в этой системе, то есть познавательный её ресурс был для него исчерпан.
Истины ради следует заметить, что призывы повсеместно применять диалектический метод исходили также из самóй гущи воинствующего материализма, использующего его для оправдания любых своих действий. Но то, что годилось при создании абстрактных идеологических клише, оказалось совершенно бесплодным в конкретных делах. Естественные науки с их феноменологическим подходом признают только факты, а они наглухо отделены от каркаса гегелевской диалектики, доотказа заполненного отвлечёнными понятиями. Последнее нетрудно проиллюстрировать схемой, используя предложенную самúм Гегелем последовательность диалектически снимаемых категорий-понятий. Здесь нет обыденных, чувственно воспринимаемых вещей. Одна абстракция сменяется другой, и на сáмой середине пути, совершаемого у Гегеля познающим Духом, выясняется, что между «действительностью» и «объективностью» находится не что иное, как «понятие». Именно оно остаётся, на поверку, единственным носителем истины; в понятиях выражено и само «абсолютное знание»:
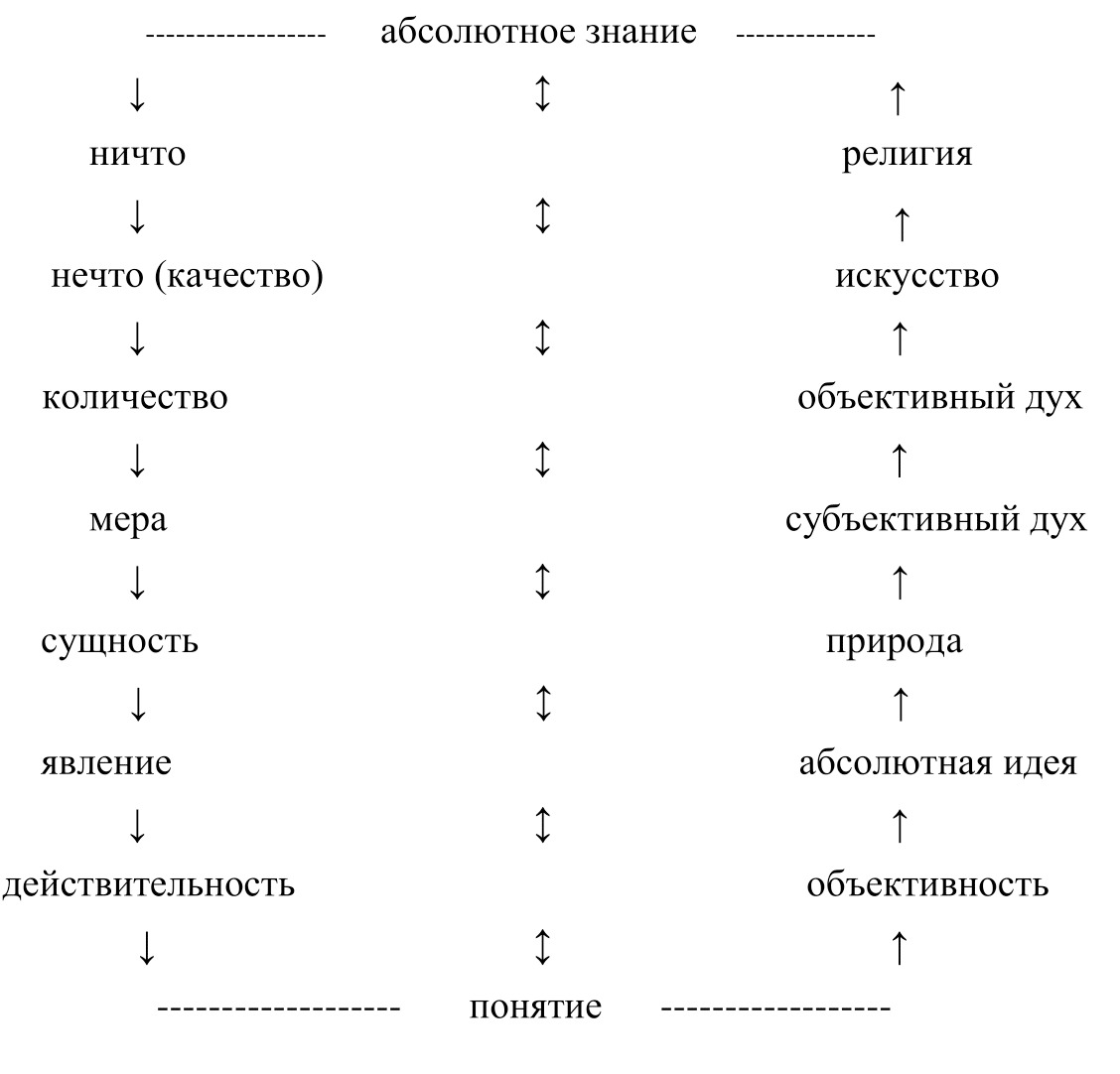
Не спасала положение и формулировка марксистскими интерпретаторами Гегеля «законов диалектики» по образцу законов природы. Несмотря на клятвенные заверения, сопровождаемые множеством примеров, что эти законы относятся как к самомý мышлению, так и к отражаемой им природе, современные естествоиспытатели не воспринимают диалектику Гегеля, предпочитая ей «диалектику Бора» — принцип дополнительности, прямо выводимый из наблюдаемых фактов и прекрасно их объясняющий.
Для Лосева диалектика — не свод неких законов, а «ритм самóй действительности»; предметом осознания, осмысления для неё является жизнь. Кстати, тем, кто не может понять диалектики, Лосев советует читать не Гегеля, а чеховские пьески «Медведь» и «Предложение». Поскольку жизнь в самой своей основе содержит противоречия (вспомните становление!), то и диалектика должна быть логикой противоречий. Стало быть, главный её принцип — антиномичность: наличие двух взаимоисключающих, но одинаково обоснованных суждений — тезиса и антитезиса. Разрешается такое противоречие в их синтезе. Таким образом получается простейшая трёхчленная конструкция — диалектическая триада.
Отдавая должное этой схеме, проявляющей смысловую структуру, Лосев пошёл гораздо дальше открывшего её Гегеля, дополнив триаду ещё одним звеном, то есть превратив в тетрактиду. А вот и его объяснение такого решения: «Диалектическую триаду легко понять (и понимали) как чистую идею и смысл, в то время как диалектика захватывает как раз всю стихию живого движения фактов, и потому надо говорить не просто об отвлечённой триаде, но о триаде как о вещи, как о факте, то есть триада должна вобрать в себя действительность и стать ею. „Четвёртый“ момент и есть у меня „факт“».
Открытый Лосевым подход, названный им «феноменолого-диалектическим», позволяет совершить благотворный переворот в научной мысли, где и сегодня живой факт оформляется в понятиях, и этим, по существу, всё заканчивается. У Лосева всё происходит наоборот: фактом оказывается сама триада основополагающих понятий-категорий. Значит, всё, воспринимаемое как факт, имеет одни и те же реальные основания. А чтобы явиться человеку во всей полноте живой действительности, факт должен быть назван, именован. Имя как носитель смысла неизбежно должно стать пятым — завершающим моментом диалектической конструкции, которая, следовательно, преобразуется в пентаду. Четвёртое и пятое начала, переводящие триаду основополагающих понятий-категорий в действительность, доступную чувствам и разуму, самостоятельными не являются, но обойтись без них невозможно. Что же касается самих этих пока лишь упомянутых, но не названных понятий, то каждое из них, в свою очередь, становится началом новой, производной от него триады, также, в конечном счёте, оказывающейся фактом. Всё это стройное сооружение может быть представлено схематически:
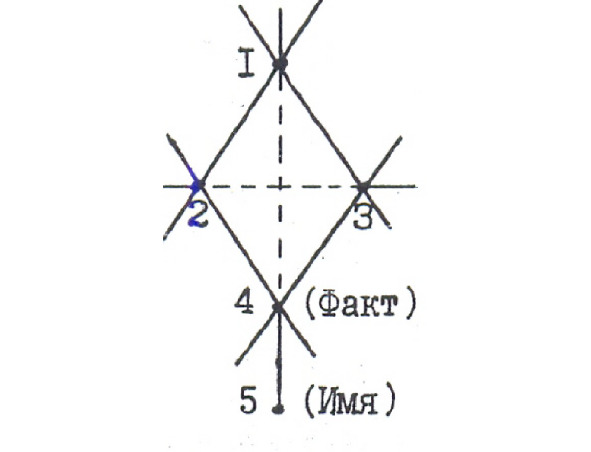
Эта схема позволяет достаточно наглядно выявить принципиальное отличие развиваемой Лосевым диалектики от гегелевской. Завершающее пентаду Имя — не что иное как смысловое выражение Факта, оно является его символом — проявлением внутреннего во внешнем. Действительно, сам Факт несёт на себе смысл триады понятий, следовательно, Имя символизирует эту триаду. Значит, по существу, вместо диалектики Гегеля, Лосев предлагает иную диалектику, разработанную и оформленную им самим, или (что по его словам то же самое) — логику символа. Её начала он обнаружил, конечно же, не в мёртвых абстракциях новоевропейского рационализма, а в исполненном жизненной мифологичности античном символизме. Да и сами основополагающие понятия-категории, на которых строится его абсолютная диалектика, открывающая философской мысли прямой путь к Св. Троице, он берет не у Канта, и не у Гегеля, а у Платона, Плотина, Прокла.
Вот и получается, что вместо предсказанного Эрном мучительного прохода «сквозь строй всего рационалистического воинства» Лосеву суждено было дать решительное сражение этому сáмому «воинству», к тому же на его собственной территории. Он не только выиграл сражение, но и увлёк весь строй за собой, заставив служить себе. В итоге открылась замечательная стартовая площадка для беспрецедентного взлёта разума, надёжно ограждённая сигнальными огнями и заботливо расчищенная. Полностью преодолёнными оказались противоречия одного и многого, тождества и различия, покоя и движения, логического и алогического.
Всё готово к взлёту!
Разум на пороге символической реальности
Адресуясь в своём раннем очерке к зарубежной аудитории, Лосев решительно заявляет: «Тот, кто ценит в философии прежде всего систему, логическую отделанность, ясность диалектики, одним словом, научность, может без мучительных раздумий оставить русскую философию без внимания». Такая, знаете ли, с современных позиций, настоящая антиреклама. Действительно, кому нужна философия, лишённая собственных основ?
Следует, однако, иметь в виду, что упомянутая Лосевым «научность» имеет вполне определённые исторические корни, которые никак не совпадают с корнями, питающими русскую философию, — они обнаруживаются в любомудрии Восточных Отцов IV — VIII вв. Нетрудно убедиться, что его исходной точкой является Откровение Св. Троицы (Отца, Сына и Св. Духа), стало быть, неисповедимая тайна для человеческого разума. Мир явлен ему как тайна Божественной Премудрости — Сына Божия, Бога Слова, чрез Которого всё нáчало быть, обрело изначальный смысл и порядок. Всё в мире — символ Слова (Логоса). И познание мира есть раскрытие вселенского символизма, восприятие Божественной воли и мысли, вписанной в мире. Такому познанию должен соответствовать никак не совместимый с тотальным рационализмом символический образ мышления. Вы, кстати, можете убедиться, что сами склонны именно к такому типу мышления, если вам кажется, чудится, наконец, верится, что во внешнем облике вещи (тела) всегда выражена (проявлена) её внутренняя тайна (душа).
Но это далеко не всё. Вопрос в том, достаточно ли для вас ощущения (осознания) этой тайны, или же вы обязательно захотите её разгадать, что называется, до сáмого основания (именно на последнее ориентирует вас опыт научного познания). Наука, действительно, широко использует термин «символ», вовсе не приписывая ему какой-то принципиально не познаваемой тайны: это знак вещи, её условное обозначение, наконец, её шифр, но, опять-таки, придуманный самим человеком. А тут дело в другом: мы часто упоминаем о душе и теле (и не только по отношению к живому существу), когда хотим сопоставить тайну внутреннего с явленностью внешнего. При этом мы вовсе не даём определения ни тому, ни другому. И правильно делаем! О-пределения, то есть установления предела смысла всякой вещи, как только она названа, требует лишь наш рассудок. Ведь только благодаря его участию со всём принадлежащим ему богатейшим арсеналом, в том числе, логичностью, системностью, можно рас-суждать как о самóй этой вещи, так и о её связях и отношениях с другими вещами, то есть, что называется, «реально смотреть на вещи». Вот это и есть рационализм. И, конечно же, вам его совершенно недостаточно, если вы, целиком доверяясь очам ума, убеждаетесь в том, что невидимое внутреннее всегда выражено во внешнем, демонстрируя тем самым изначальный порядок вещей. Такой, вот, если хотите, тест на обладание символическим образом мышления.
Но ведь именно о нём заявлял Лосев в своей итоговой формуле — помните? После этого вам то и дело намекали, что её развёртывание приводит к стройному учению о выразительно-смысловой символической реальности. И вот пришла пора последовательно изложить его основы, чтобы оно, наконец, смогло стать принадлежностью общественного разума.
Сам Лосев, как мы уже с вами выяснили, не только прекрасно усвоил, но и творчески развил традиционный подход западноевропейской философии. Это дало ему возможность использовать по мере надобности ту самую научность, которой вроде бы недоставало к началу ХХ века самобытной русской философии. Однако само изложение своего учения, оформление которого так и осталось незаконченным, он начинает как раз с лишённых жёстких ограничений рационализма пространных и образных суждений, завершая их, впрочем, весьма строгими умозаключениями. Анализ последних даёт возможность выделить некое ядро, заключающее в себе начальные посылки и главные принципы.
Именно поэтому появилась возможность попытаться представить это ядро в виде кратких тезисов (форма, к которой неоднократно прибегал сам Лосев). Текст каждого тезиса целиком подобран из лосевских работ (прежде всего упоминаемой выше работы «Сáмое самó»):
Тезис I. Всякая вещь есть именно она сама — некая не сводимая ни на что другое абсолютная индивидуальность, лишённая всяких признаков и предикатов, — сáмое самó, которое непознаваемо и дологично. Сáмое самó не может быть ни одним, ни другим, ни вообще чем-нибудь, — оно есть тайна, которая никогда не сможет быть раскрыта, но может являться, то есть быть ощутима, представима, мыслима и сообщима, притом сообщима как тайна же.
Самое первое, что утверждает мысль — бытие, или, что то же, полагание, утверждение; без него не существует ничего прочего. Совершенно невозможно сказать, почему, из каких причин, на каком основании и как именно появляется этот первый удар молнии смысла. Тайна первого полагания мысли, то есть тайна её первого зачатия, сопровождает мысль на протяжении всего её существования, ибо она не может вечно не зачинаться и не может вечно не возникать или не расти. Она — абсолютная необъяснимость знания и бытия. Чтобы был ум, требуется тайна его первого зачатия, и тайна эта уже не есть тайна только ума, но тайна сáмого самогó и тайна его эманирования. Она абсолютно неразрешима, но в то же время абсолютно необходима. Она являет себя как тайну, и она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений разума и смысла вообще.
Тезис II. Бытие есть полагание, утверждение, то есть первое расчленение, противоположение, координация. Как только возникает категория бытия, сáмое самó превращается в живое и неиссякаемое лоно бесчисленных смысловых возможностей, настойчиво требующих своего участия в бытии. В то же мгновение появляется и целая неисчислимая бездна ещё нерасчленённых возможностей, и наше бытие оказывается окружённым этой непроглядной ночью и животворным хаосом бесчисленных смысловых оформлений. Если есть бытие, то есть и небытие: отсутствие расчленения и различения, неразличимый хаос смысловых и бытийственных возможностей. Небытие не просто отсутствие бытия (тогда не о чём было бы и разговаривать), но это есть прямое присутствие бытия — только в его чистой возможности. Стало быть, небытие как факт имеет смысл бытия, но такое бытие само имеет смысл небытия.
Бытие и небытие совпадают в становлении (любое изменение, происходящее с вещью, представляет собой вид становления). Чистое становление — это непрерывно-сплошное протекание, каждая точка в котором исчезает в момент своего появления. В нём ничего не может быть отличено или названо. Становление само рождает себя и само поглощает себя; само порождает всё иное и само поглощает всё иное. Оно является принципом сущего вообще.
Однако как бы вещь ни менялась, в ней есть нечто устойчивое. Наличное бытие вещи, рассматриваемое как результат становления, — это ставшее. Ставшее есть нахождение бытием в небытии самогó себя.
Тезис III. Одно, если оно ни от чего не отличается (если нет никакого «иного», другого), есть абсолютная единичность — абсолютное отсутствие бытия для мысли, так как мыслить — значит прежде всего различать. Это различие — «одно» и «иное» — появляются вместе с полаганием бытия, как бытие и небытие, которые синтезируются в становлении. Следовательно, становление даёт становящееся объединение «одного» и «иного», то есть даёт некое постоянно нарастающее осуществление упомянутой абсолютной единичности — бесконечное повторение абсолютно бескачественных актов полагания. Это и есть число, которое обычно связывают с количеством, не доводя его до философской категории. Но количество — не что иное как число, применённое к исчислению чего-нибудь. Само же число не нуждается ни в каком количестве: оно вообще предшествует и количеству, и качеству. Общая сущность числа выражается следующими аксиомами:
число есть чистый акт полагания;
число есть едино-раздельный акт полагания;
число есть становящийся акт полагания;
число есть ставший акт полагания;
число есть выразительный акт полагания.
Так как всякая новая категория есть прежде всего нечто положенное и нечто отличённое от предыдущей категории, число — принцип самой категориальности, исток и начало всякого различения и разделения.
Тезис IV. То, конца чего невозможно достичь, обычно трактуется как бесконечное. Однако такая потенциальная бесконечность — всего лишь противоречие в пределах конечного. Суть бесконечности в ином. Полагание самогó становления в качестве некой смысловой субстанции приводит от становления к ставшему, то есть к его ограничению и как бы к некой оформленной и потому конечной ставшей вещи — целому. При этом стихия становления проявляет себя в дроблении целого на части, так как в пределах формы и ярко очерченных размеров уже не может быть простого и неопределённого растекания, как в чистом становлении. Однако сами расстояния между дробящимися частями делаются исчезающе малыми.
Соединение целого с его неисчерпаемой полнотой и есть подлинная бесконечность; всякая часть в ней оказывается равной целому. Любую конечную величину, несмотря на её вполне ограниченные пределы, можно наполнить внутренним алогическим содержанием, которое необходимо явится бесконечностью. При этом получит оформление бесконечная устремлённость, а становление и текучий алогизм перейдет в смысловую актуальную направленность чёткой и конечной формы. Это — актуальная бесконечность.
Всё чудовищное своеобразие категории бесконечности, упорно замалчиваемое и затираемое в обычном и популярном сознании, становится ясным при постановке геометрических и конкретно-физических проблем. Формой бесконечности является точка; бытие как точка, находящаяся везде, есть одна-единственная точка; любая точка бесконечности движется сразу во всех направлениях с бесконечной скоростью, то есть покоится. Эта предельная картина структуры бесконечности может с любой точностью и приближением осуществляться в любой точке материального мира.
Тезис V. Всякая различённая вещь, пока она существует, обязательно остаётся самóй собой, несмотря на все перемены. Но оставаться собой — значит быть самостью, самúм самúм, быть лишённым всяких различий. Остаётся признать совпадение различимости и неразличимости в одном едином и неделимом обстоянии как факт несомненный и понятный. Эту понятность, основанную не на рациональном выводе и не на слепом эмпирическом обобщении, мы и называем символической. Символ там, где, с одной стороны, налицо два пласта бытия, не имеющие между собой ничего общего, сопоставляемые чисто внешне, с другой, — между ними полное тождество, и субстанциальное и смысловое.
Совпадение (сопоставление) различимости и неразличимости (отождествление бытия и небытия) происходит в становлении. В таком сопоставлении действует метод, обычно называемый диалектическим. Основан он на простом факте: всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но отличаясь от них, она тем самым при их помощи получает для себя определение, как бы возвращается к себе, а это из неопределённой делает её определённой.
Диалектика рассекает действительность на отдельные области и соединяет их же логически же, в мысли. Диалектический вывод бытия отличается от его символической данности тем, что в нём по порядку перечислены все те моменты, из которых состоит непосредственная символическая данность. Диалектика есть не что иное как логика символа, символическая логика.
Тезис VI. Одна и та же вещь требует или предполагает бесконечное количество своих разнообразных интерпретаций; всякая интерпретация есть символ, следовательно, сáмое самó вещи дано только в символах: в них самость вещи совпадает с той или иной её интерпретацией.
Бытие вещи предполагает её выразительность — абсолютную явленность всему иному. Это — эманация, или первый символ бытия. Эманация несёт в себе всю определённость вещи, включая качество, конечность, актуальную бесконечность.
Все вещи вместе, то есть существуя в единстве, также имеют своё сáмое самó — абсолютную самость. Следовательно, всё существующее: логика с её категориями, природа с её вещами и организмами, история с её людьми, космос со всей его судьбой — есть только символы сáмого самогó, или абсолютной самости.
Не быть символистом — это значит быть или только рационалистом, или только эмпириком. Но признаваемые самодостаточными разум со всей его логикой и наукой, как и чувственный опыт с его наглядностью и непосредственной реальностью, есть только абстракция живого бытия. Два-три века рационализма и позитивизма — ничто по сравнению с трудно исчислимыми веками общечеловеческой истории, когда символ понимался именно онтологически и совершенно реалистически.
Символ не указывает на какую-то действительность, но есть сама эта действительность. Истинное познание может осуществляться человеком лишь в многообразии символов: смыслового (сущностного), самосознательного (интеллигентного), личностного, природного, социального, мифического.
Переступив порог…
Изложение учения Лосева о выразительно-смысловой символической реальности в форме тезисов ни в коей мере не претендует на подмену первоисточников — самих его трудов. Это всего лишь попытка проникнуть в тайну авторского замысла, сделать его воспринимаемым современным читателем, превратить в средство расширения индивидуального и общественного сознания. Следует иметь в виду, что и «Сáмое самó», и другие работы Лосева, в которых обнаружены основы его учения, представляли собой оставшиеся после кончины автора рукописи, частично незавершённые, подчас вообще в виде фрагментов (всё это, бережно отредактированное, вошло в объёмистые тома, вышедшие в издательстве «Мысль» в период 1993—1999 гг.). Получается, что каждый, кто интересуется непосредственно «кухней» философа, имеет реальную возможность попасть в неё и даже пытаться определять «на вкус» степень готовности того или иного «блюда».
Проблема же заключалась именно в том, чтобы попытаться представить лосевское учение в оформленном виде. И здесь решение найти в материалах автора именно тот минимум, в котором содержалась бы сама его суть, представилось единственно возможным. Естественно, при этом саму форму изложения необходимо было максимально приблизить к той, которую мог бы использовать сам Лосев. А это и могла быть прежде всего предельно ёмкая и в то же время достаточно привычная для него форма кратких тезисов.
По-иному был решен вопрос формирования полного наименования лосевского учения. Конечно, в том, Лосев совершил прорыв именно в символическую реальность, сомнений не было. Он и сам неоднократно говорил об этом. Но ведь открываемая им для нас реальность особая: главное — не её воспринимаемость и осознаваемость кем-либо, а непосредственная связь присущих ей самóй внешней выраженности и внутренней осмысленности; стало быть, она оказывается выразительно-смысловой. У самого Лосева, правда, такого названия найти не удалось, зато это сделала за него Валентина Михайловна, заявив, что Лосеву присуще «острейшее чувство самостоятельности всей выразительно-смысловой сферы». К этому добавить что-либо трудно.
Изложенные выше тезисы охватывают проблемы, лежащие вне пределов человеческого мышления, либо находящиеся на сáмом его пределе. До-категориальное сáмое самó и абсолютная единичность; первое полагание — бытие и тайна зачатия смысла; совпадение бытия и небытия в становлении и сам порядок становления, выражаемый числовым рядом и бесконечностью; наконец, изначальная символическая двойственность реальности — всё это осмысливается как проявляемая тайна, не подлежащая разгадке. Здесь, конечно, даются некие первичные определения, но всё это лишь результаты прямых попыток устремлённого в потенциальную бесконечность разума выразить в привычной для него форме то, что само по себе не может быть осмыслено. Они и формируют некий, условно называемый первым, круг осмысления символической реальности.
В жизни реальность для человека проявляется в качестве факта, будь то вещь, процесс, событие. Анализируется факт с помощью сущностно-смыслового подхода. Это и образует ограниченный пределами мышления круг, который мы с вами можем назвать здесь вторым кругом осмысления символической реальности. Найдутся тезисы и для этого круга:
Тезис VII. Определённость бытия, взятую вне самóго бытия, ответ на вопрос «Что это такое?», передаёт термин «сущность». Сущность — отражённое бытие, оно всегда двупланово, всегда перспективно и рельефно, в противоположность плоскостному характеру чистого бытия. Если следовать образцу первого символа, эта двуплановость выразится следующим образом:
сущность в своём бытии есть смысл;
сущность в своём инобытии есть явление;
сущность в своём становлении есть существование;
сущность в своём ставшем есть вещь;
сущность в своём для-себя-бытии есть действительность;
сущность в своей эманации есть выражение.
Сущность есть соотношение с самим собой как с внешним себе, она не рождает из себя свои соотношения, а лишь содержит их в себе. Если из утверждения «Бытие есть бытие» исключить само бытие, остаётся тождество. Если то же самое сделать по отношению к утверждению «Бытие есть небытие», остаётся различие. Таким образом эти понятия оказываются первичными смысловыми категориями.
Тождество бытия и сущности, положенное как бытие, есть объект; тождество бытия и сущности, положенное как сущность, — субъект. В субъекте бытие дано не в своей чистой определённости, но в своей осмысленности, которую, однако, несёт на себе определённая вещь. Смысл, сам, самостоятельно соотносящий себя с бытием, которое его окружает, есть принцип сознания, или субъекта.
Тезис VIII. Смысл бытия есть всё то, что можно о нём высказать, помыслить, почувствовать, представить и т.д., то есть связан непосредственно с нашим восприятием. Между тем сама природа смысла независима от человеческого сознания. Самым глубоким и максимально принципиальным основанием смысла являются различие и тождество как смысловые категории. Смысл вещи есть тождество всего того, из чего она состоит, то есть тех различий, которые определяют её индивидуальность. Такое тождество, существующее одновременно с различиями, представляет собой единораздельность. Само различие, если оно берётся как бесконечно мощная смысловая категория, есть не что иное, как тождество. Притом различие есть бесконечный символ тождества, а тождество есть бесконечный символ различия.
Наличное бытие вещи, рассматриваемое как результат становления, — есть ставшее. В сфере смысла ставшее принимает на себя категории различия и тождества, образуя цельную смысловую структуру — эйдос. Обладающий интеллектуальной воззрительностью эйдос есть первое о-пределение смысла вообще, то есть первое полагание для него точных пределов. Он представляет собой наличное бытие — самотождественное различие, данное как качество смысла. Сущность явлена в эйдосе.
Сфера смысла совершенно невещественна, к ней неприложимы пространственно-временные ограничения. Смысл действует сразу, целиком, весь и полностью в одно мгновение, притом, с бесконечной силой.
Тезис IX. Чтобы получить для себя необходимое диалектическое оформление, ставшее должно противопоставить себя тому, что его отрицает, прежде, чем вступить с последним в живой диалектический синтез. Противоположно ставшему не-ставшее, которое свободно только от факта становления, но не от его смысла. Должна быть такая категория, которая содержит в себе и становление, и ставшее, но идейно, в форме чистого смысла, так что от данного бытия как бы распространяется смысловая атмосфера его становления, оно как бы разрисовывается текучими, но сущностными формами бытия, превращаясь в некую текучую сущность. Это и есть то, что мы называем энергией смысла (энергией сущности) — тем внутренним содержанием смысла бытия, которое оставаясь чистым смыслом, изливается вовне, являя внешне таинственную жизнь внутренних недр бытия.
Энергия смысла — не движение, а смысловая картина движения, то есть движение, конструирующее саму сущность. Энергия смысла, в частности, проявляется в магии, то есть в смысловой заряженности некой идеи, которая, будучи актуально выражена и сориентирована в данном направлении, разряжается в виде крупных событий в данной области действительности.
Энергия смысла (энергия сущности) есть необходимая категория того мировоззрения, которое живёт как апофатикой, так и символикой, и объединяет их, при всей их раздельности, в одной неделимой и самотодждественной точке.
Тезис Х. Сáмое самó лишено всякого противоположения и превышает всякое расчленение. Они появляются вместе с полаганием бытия — обретением смысла. Неделимая стихия сáмого самогó распадается на внутреннее — смысл и внешнее — явление. Преодоление и снятие противоположности смысла и явления происходит в сфере действительности. Однако действительность, раскрытая в себе и для себя самой, всё ещё закрыта для всего иного. Она раскрывается в образах, выражениях, именах. Образ действительности не оторван от неё, хотя и отличен от неё, не разъединён с ней и составляет с ней одно фактическое целое, один факт. В имени вещи берётся внутренний смысл вещи и его внешнее самовыявление в некотором образе вещи, который активно вступает в окружающее инобытие, вбирает его в себя, общается с ним.
Арена смыслового взаимообщения вещи со всякой другой вещью и есть её имя, — максимальное и наиболее интимное выявление всякого сáмого самогó вещей. В имени своём действительность продуцирует саму себя сполна и целиком, и здесь напряжены все её внутренние возможности. Имя — великая сила и неубывающая энергия, но это сила в возможности и энергия в потенции. В имени явлена энергия сущности, сама же именуемая сущность как сáмое самó не даётся в имени, — она остается в своей нетронутой, неопознанной бездне (в апофатизме). Абсолютный апофатизм сущности есть условие всякого учения об имени. Имя есть символ, притом, символ, наполненный личностным содержанием.
Тезис ХI. Возможно такое тождество бытия и сущности, которое положено именно как тождество бытия и сущности. Тут возникает категория, синтезирующая и отождествляющая объект и субъект, — то, что нужно назвать личностью (Гегель, с нашей точки зрения, не вполне удачно называет эту категорию Абсолютной Идеей). Ещё дальнейшая диалектика привела бы нас к природе — становящемуся, эволютивно данному личностному бытию, а потом и к обществу, которое, несомненно, есть диалектический синтез личности и природы, поскольку личность здесь дана природно-внелично (и даже часто безлично), а природа дана как живое человеческое сознание (от смутной животности до высшего разумного проявления гения).
Личность есть конкретная осуществлённость всего внутреннего, всей, какая только свойственна данной субстанции, интеллигенции (самоосознанности). С личностным бытием неразрывно связана мифология — осознание такого бытия; миф — бытие, субстанцией которого является личность, её история и её судьба. Личность и общество, личное и социальное бытие вмещает в себя и логически-идеальное бытие, и физически-материальное, и животно-органическое, и индивидуально-психическое. Однако все эти абстрактные сферы бытия, охватываемые одной категорией личности, реально существуют только в своей абсолютной срощенности как абсолютное бытие.
В основе такого бытия, в Абсолюте самом залегает Личность. Абсолютная Личность и есть первое и последнее, очевиднейшее и конкретнейшее бытие.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.