
Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.
…
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
…
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
А. Блок
Преступник не только имеет право на наказание, но может даже требовать его.
Гегель
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.
С. Есенин
1
Пока поднимался, в голове не мелькнуло ни единой мысли; разум заливал клокочущий страх. Вот пятый этаж. Шестой. Здесь, кажется, кто-то живет. Здоровался ли я с соседом, знал ли его в лицо? Или выдумал только что… Не помнил, не хотел вспоминать. Восьмой этаж: мусор и плесень. На десятом выбиты стекла; холода нет, окна забиты сгнившими досками, и здесь чуть темнее, чем на других этажах. Одиннадцатый, и тринадцатый…
…Почему же так страшно?
Споткнулся; мышцы забиты усталостью, болью. Присел на ступеньке, стянул перчатки, и тут же сердце стукнулось в ребра и замерло: без обычного блеска кольца, покрытые кровью и грязью, руки казались совершенно чужими. Распахнул пуговицы пальто. Пальцы ткнулись в предмет в его складках: жесткий диск. На матовом серебристом металле зияла жирная трещина. Я застонал. Посмотрел вниз под ноги, в темные пролеты, взглянул на окно. Грязь прошедшего ноября застыла пятнами на стекле, отразила бледное небо снаружи. Мякоть на пальце с болью впилась в хрупкий корпус: из-под обломанного ногтя лениво проступила кровь. Встал, сунул плоский прямоугольник обратно, занес над ступенью ногу для шага. Миновал четырнадцатый этаж, и вдруг стал подниматься бегом, тяжело хватая ртом застоявшийся воздух. Восемь пролетов; в висках били молоты.
— София?
Все залито серым светом. Вытянутый прямоугольник окна, и в правой его части бледно-зеленое пятно пледа. Кресло, а в кресле фигура. И тишина.
Запер дверь на засов. Взглядом окинул квартирку: пропали осколки стекла и контейнера; снова посмотрел на фигуру.
— Софи… Это я…
Здесь ли она? Стоит за углом, притаилась ли в ванной комнате? — дверь нараспашку, там влажная темень. Прошел вглубь коридора. Пустота в ванной. Угол: белесый кирпич.
Нахмурился. И вздрогнул от голоса, звенящего счастьем:
— Здравствуй!
Я не узнал ее. Это была София, ее копия, но это была не она. Будто София из другой жизни, совершенно забытая мной ипостась; кто-то листал каталог и от скуки, для смеха, ткнул пальцем в страницу.
Приблизился. Вытянул руку, чувствуя на кончиках пальцев тяжесть ее подбородка.
— Что с тобой сделали?..
Она улыбнулась, довольная, проурчала:
— Мы играли. Нравится?
Не ответил, провел по щеке большим пальцем от уголка губ к высокой скуле линию, вдруг отпрянул. Антрацитовых волос до лопаток больше не было. Вместо плавно струящихся локонов как-то по-мальчишески коротко, наискось, полностью остриженная там, где багровела от раны кожа, волновалась черная грива, закрывая собой шею сзади до правого плеча. Ассиметричная вуаль покрывала прелестную головку, открывая левое ухо, и в мочке его чернела серьга. Сощурился: это была моя серьга, украшение, подаренное Софией давным-давно, черненое серебро с античным узором-меандром. Прокол был выполнен грубо; на мертвой коже застыло подобие сукровицы по рваным краям ранки.
Не надевал серьгу с тех пор, как устроился на гребаный склад. Такие штуки там не понимали и не любили. Кажется, что и отверстие в мочке моего левого уха давно уже заросло.
— Какого черта?..
Губы накрашены черным. Веки отливали пепельным контуром. Стройное тело укутано в рубашку с короткими рукавами, красно-черную, застегнутую на все пуговицы, туго обтягивающую литые бедра и грудь; на точеных ногах пестрели белые в крупную сетку гетры до согнутых сейчас колен. Ногти на пальцах рук и ног вызывающе чернели от лака. Кто-то придал «Сиберфамму» образ бунтующего подростка. Я ухватился за кончик гетры, потянул прочь, оголяя икру, щиколотку и ступню; без всякой цели; может, желая убедиться в реальности предмета гардероба, а может, подчиняясь какому-то глубинному, необъяснимому сейчас порыву. Завертел головой, ожидая, что вот-вот появится тот, кто объяснит, наконец, для чего было нужно совершать этот акт вандализма.
Копия чуть наклонилась, рубашка пошла складками, и я обомлел, увидев вдруг, что внизу под ней черным пятном пульсирует кружевное белье, что на правом предплечье багровым иероглифом застыло пять темных букв: ШЛЮХА…
— София! — громко позвал я, прекрасно понимая, что меня не услышат сквозь бетонные плиты двух этажей. Сжал в кулаке белую гетру.
— Я здесь, — сказала она, наклоняя голову набок, касаясь короткими волосами плеча. Сережка блеснула серебристым узором. Багровая надпись пульсировала; кто-то вырезал ее острием, безжалостно взрыв мертвую плоть. Осознавать значение короткого слова было невыносимо; я плотно повязал предплечье белой сеткой.
Самый край солнца, наконец, вспорол низкое небо. Тени легли на лица, исказили черты.
Постукивал пальцами по карману пальто. Четыре пролета вверх — этого мало, слишком мало, чтобы собраться с мыслями, успокоиться, осознать хоть что-то. Зазвенела связка ключей в руках, придавая моменту самый обычный, самый тривиальный смысл: я вернулся домой и вот-вот войду внутрь.
Выдохнул. Провернул дважды ключом в замке. Ладони покрылись холодными мелкими каплями. Ключ выскальзывал, не желал покидать узкую щель, свисая из двери, будто ухватившийся за острый край скалы неудачливый путник над горной бездной. Выдернул с силой, вошел в полумрак коридора.
— Софи?..
Ублюдочный запах все еще здесь, как такое возможно?!
Выдохнул снова. Голова закружилась.
Темный угол; там пусто, ни единого пятнышка. Пыльные лучи солнца из кухни. Закрытая спальня.
— Софи, это я!..
Почему так гулко звучат шаги?
Кухня пуста. Обеденный стол девственно чист, посуда на полках, ничего на плите. Низко гудит холодильник. Пам! — падает капля из крана.
Ванна пуста. Вечно влажные стены, плохо высохшее полотенце в синюю полосу на батарее; все, что здесь было, тряпки, одежду и простыни, унес куда-то Елагин.
Дверь цвета слоновой кости, краска у нижней петли облуплена. Сбитый порожек, упершийся в старый линолеум.
Спальня пуста.
…пуста.
Рухнул на край кровати, обхватил руками голову; пальцы погрузились в спутанные сальные волосы. Сделал глубокий вдох и почувствовал запах сладости, разобрал тихий стон.
Встал, сдернул рывком покрывало. Смятые подушки, пара длинных черных волос, широкое одеяло; пустая кровать. Замотал головой, шаря по комнате взглядом: шкаф, две гитары, два стула и стол, задернутое шторой окно. Никого. Я один. Так и стою в верхней одежде над всклокоченной мною постелью. Неслышно дышу ее запахом.
— София, София, Софи… — зашептал тихо, уставившись в одну точку. — Что происходит, Софи?..
Одернул тяжелую штору, пуская в комнату серое солнце. Взметнулась веселая пыль. Распахнул окно, упершись рукой в подоконник: мороз хлынул внутрь, сметая сладкую пряность без остатка. Бледное утро мерцало, переливалось ртутным сиянием. Натужно и шумно дышал черный холм, погребенное под снегом озеро дрожало за кладбищем в стылом мареве, и дальний берег его был усеян высокими стройными соснами. Ветви тополей и берез укрывали купола белой церкви. Раздалось пронзительное лошадиное ржание: нелепой диковинкой замерла расписная нарядная тройка на разбитом холодном шоссе. Ни возницы, ни пассажира.
Глотнул обжигающий легкие воздух и прокричал ее имя. Ощутил привкус крови во рту. Стая ворон поднялась над крестами, криво прошла над холмом, вновь оседая на ветках, вновь заполняя живой массой черные гнезда. Равнодушно взмывала в низкое небо заводская труба вдалеке.
Рама сомкнулась, жалобно зазвенело стекло. Отвернулся от внешнего мира, пошел прочь от окна, на границе спальни увидев собственную тень. Она падала на пол коридора, заключенная в косой прямоугольник, лежала на холодном линолеуме и ждала неизвестно чего. Поморщился, целя ногой в черную голову, сделал шаг. Тень дернулась и пропала. Я посмотрел в дальний угол прихожей, в сторону входной двери. На вешалке все так же висело пальто Николаса ван Люста. Ни дафлкота цвета маренго, ни ботильонов.
София исчезла.
Методично обошел квартиру еще раз. Никакого послания, ни намека, совсем ничего. Взял телефонную трубку, услышал монотонный сигнал. Кнопка повтора — вдавил ее в хлипкий пластиковый корпус. Раздалась мелодия из двенадцати нот. Щелкнуло.
— Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Абонент…
Бросил трубку на рычаг. Во рту пересохло. Чей это номер? София кому-то звонила?
Снова нажал кнопку повтора. Первая нота. Вторая. Черт, слишком быстро!..
— Абонент недоступен…
Перевел набор в тональный режим. Что за звук? От единицы вниз, не то, нет, не то! Вот оно, «плюс». Вторая нота — семерка.
— Пожалуйста, перезвоните позже…
Не сомневайтесь, перезвоню.
Семь, три девятки… Следующая цифра оказалась четверкой. Потом, конечно же, двойка; твою мать!..
Зачем ей звонить мертвецу?
Я затравленно озирался. Из кухни бил желтый солнечный свет, освещая тот самый, пустой сейчас, угол. Снова снял трубку, снова набрал его номер.
— Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже.
Не в сети? Выключен? Где вообще может быть телефон мертвеца?..
Застыл. Увидел темную кляксу у входной двери. Как в бреду положил трубку и подошел к вешалке. Нежная ткань, терпкий запах. Два кармана снаружи и два внутри: пусто. Стоп. Нагрудный карман, под которым когда-то стучало его сердце. Здесь что-то маленькое, темно-синее: флешка. Нахмурился, вызывая в памяти беседу на берегу Охты.
…«Да ты сам почитай, у меня тут все характеристики, все инструкции и гарантии!..»
Документация на гиноида?
Ничего больше. Только этот флеш-накопитель. Сунул его в карман джинс и тут же ударил телефонный звонок, и стена задрожала, и линолеум на полу будто вспух. Медленно, боясь вспугнуть само это явление — звонок телефона, — я прокрался обратно и горячими пальцами обхватил серый пластик. Не дыша, закрыв мембраны ладонью, приставил трубку к правому уху и услышал скрежет помех — будто наждачкой ожесточенно терли туда-сюда по стеклу. Что-то пыталось пробиться ко мне сквозь высокочастотный шум. И вдруг различил голос: обычный мужской голос, каких в мире миллиард миллиардов, немного гнусавый и гулкий, и он говорил, но только вот обращался совсем не ко мне; и кто-то ему отвечал:
— …давешняя бабенка названивает. Ох, я вчера от ее голоса сам не свой был, а руки, как назло, все в машинном масле, хер отмывал потом часа два. Мы точно глушилку поставили? Назойливая она какая-то; она да тот старикан. Невозможно работать!
— Поставили сразу как начали, обижаешь. А ты зачем ей ответил?
— Не отвечал я. Голосовую почту врубил, чтоб не переживали.
— Ну да, это ты правильно. А на старичка-то тоже передернул?
— Да пошел ты!
— А чего? Бабенке той, наверное, лет сто, бывают такие старушки, им уже помирать, а голосок как у целки. Ты прошивку добьешь сегодня?
— Как только — так сразу. Мне еще коленвал у «Ауруса» щупать, я ж за двоих, твой в запое опять, говнюк мелкий. Говорил ведь ему, важный день будет, так нет же, паскудник!
— Ты моего брата не тронь, сам же ему лить в глотку начал. Он парень рукастый. А чего там наш друг, таксисты по нему не звонили?
Что-то упало, лязгая. Раздался вздох.
— Давай, круши-ломай, чего уж там!..
— Мирон, завали. Так чего — звонили, нет? Отличный же кандидат, даром что мужичок. Кожа гладенькая, молодая. Зима зимой, генераторы пока пашут, но долго ждать сам знаешь.
Глаза мои высохли, перестали моргать. Струйки холодного пота медленно стекали по ребрам. Сердце колотилось в груди, и в шее вместо горла был один мерзкий сгусток грязной пульсирующей каши.
— Да непростой он, мутный. Ярик его пробивает, когда все поймет, тогда и таксисты подъедут.
— Ой, ну как маленькие, пальчики лазером, а глазки уже и так сами гулять пошли, первый раз что ли; простой, непростой. Звонки отследили?
— Старичок серьезный, из Суоранды, звонит постоянно и лает, а бабенка всего разик вчера, чего париться?
Кто-то присвистнул.
— Суоранда, говоришь? Тогда пускай Яр не отлынивает. Проблем нам не надо.
— Вот, опять долбит, ну как тут, сука, работать?
— Это же исходящий, дурень ты. Хер отмыл, а ручонки…
Треснуло, повисло очень странное, долгое до жути безмолвие. Отчетливо слышал лишь собственное сердцебиение.
— Блядь! Обрывай!
Щелкнуло хлестко, грохнуло. Протяжный монотонный гудок выедал тишину. Я медленно сполз спиною вниз по стене, не выпуская трубку из рук. Уронил голову на грудь, широко распахнув веки. Сжал крепко предмет в руке.
…Николас. Они о нем говорили сейчас. Господи…
За окнами ударил одинокий колокольный раскат. Звуковая волна растворилась среди высоток, поглощая в себе гвалт сотен птиц. Я поднялся. Подхватил с вешалки кашемировое пальто, перекинул его через локоть и вышел прочь из квартиры. Трубка осталась свисать на витом проводе у стены.
Я как будто уже и забыл о косой этой стрижке, о нелепом наряде, о кровавом клейме под тряпицей. Увидел фигуру в горчичном кресле и устремился прямиком к ней, чтобы накинуть на узкие плечи ненавистное пальто — по какой-то иррациональной причине я не мог принять этот образ, воссозданный ею самой.
Неживые глаза заблестели от радости, фокусируя на мне взгляд.
— Ты вернулся.
— София, та девушка, — произнес я негромко, чувствуя дрожь в уголках рта. — Когда ты видела ее в последний раз?
Что-то вспыхнуло на мгновение в глубине черных зрачков. Кончики тонких пальцев еле заметно вздрогнули.
— Девятнадцать часов семь минут назад, — бесстрастно уведомила «Сиберфамм».
Вчерашние три часа дня. Прошло два часа, как мы ушли вместе с панком. Она позвонила ван Люсту, оставила мертвецу сообщение. Одела гиноида… Нет, надругалась над ним! Оделась сама и… Что же произошло?
Отчетливо услышал дыхание. Под черным кашемиром медленно вздымалась грудь. Тускло блестела серьга в грязно-розовой мочке. На правом предплечье сквозь сетку багровела рваная надпись: «Шлюха». Услышал вдруг ее голос:
— Эпидермис твоего лица поврежден. Рекомендуется хролгексидиновый…
— Заткнись! — рявкнул я; в хриплом голосе смешалась тоска и отчаяние, опустошенность, злость на себя за то, что ни черта не понимаю, не знаю и не вижу дальше собственного носа. Затрясся от осознания, что эпидермис — это внешний слой кожи, а кожа гладенькая, молодая, даром что мужичок…
Рваными движениями стянул с себя пальто, пихнул — как украл — флеш-накопитель в карман к жесткому диску, накрыл дешевым полиэстером спинку горчичного кресла; сквозь бежевый хлопковый свитер пробрался вдруг влажный холод. Зима нашла лазейку в складках зеленого пледа, выстуживая квартиру номер сто тридцать девять. Почувствовал взгляд: она смотрит. Ничуть не задетая грубостью, светилась будто бы изнутри, ожидая чего-то, кроткая и счастливая. Полные губы, вымазанные черным, застыли, опустив уголки, и они тоже ждали. Ждали и тонкие руки, и стройные ноги, и укрытые его пальто плечи, живот и все остальное… Ждали меня. Она поедала глазами. Хотела — грязного, избитого, злого.
Шумно сглотнул. Отвернулся. Это бред. Фантазия уставшего мозга. Да пошла она к черту!..
Импульсивно вдруг сдернул с нее кашемир, скомкал, бросил под балконную дверь на осколки. Осторожно, как драгоценность, положил ей на плечи дешевый полиэстер.
Ритуал ревности был повторен.
Я вонял страхом, пах сумасшествием. Между ребер ломила тягучая боль. И безумно, до одурения, хотелось есть. Тело брало свое, извечное, равнодушное — вынь да положь, и пусть хоть Луна упадет на чертову Землю. В желудке тянуло от пустоты, резало в диафрагме там, куда угодил сапожищем ражий детина. Пальцы в грязи, бурых подтеках; на безымянном — бледная тонкая полоса пустоты. Сжал кулаки: ободранные костяшки налились темно-розовым. Тело разрезано пополам чуть выше пупка багровым подобием шрама. Он тянется неровной линией по животу, бокам и спине. Под напором горячей воды шрам распухает, горит. Горят темно-синие пятна под ребрами. Ноги дрожат, норовя подкоситься. Подставляю лицо потоку воды, отзываются жжением ссадины и царапины. Вода шумит, валит пар. Запотевшее зеркало скрывает в себе не отражение, но будто другую, потаенную реальность. Напор слабеет, меняет характер. Тепло, и вдруг ледяная протока, плевки талой воды. Это дом решил поиграться со мной. Но я стою, как стоял. Лишь спина прямее и тверже. Лейка шипит, плюется, слабеет, превращая в тонкую струйку только что мощный поток. Но вот и она исчезает.
На сегодня до вечера все. С легким паром.
Ставлю ступни на холодную плитку. Провожу ладонью по зеркалу — узкая полоса этой реальности. Видно только глаза. Цвет радужки не различить; я и сам позабыл их оттенок — кажется, болотная серость. И рядом с глазами, справа от радужки, белков и зрачков ртутная надпись, проявившаяся на запотевшем стекле: «Прости»…
Раскрошил кусок хлеба; пальцы застыли, давя сухой желтоватый мякиш. Прозрачный пар поднимался над сизой тарелкой; не чувствовал вкуса, забыл, что готовил. Стена кухни маячила совсем рядом и одновременно нигде. Тихонько звякнула ложка. Голод требовал пищи. Остатки еды исчезали во мне; я не запомнил, что брал в холодильнике, что осталось на полках, есть ли вообще еще в доме припасы.
…У кого она просит прощения? У меня? У ван Люста? А может, сама у себя?
Обжегся горячей жидкостью. Что это, лук? Мерзкий запах. Заплесневел или уже и был таковым, зараженный этой пепельной новой жизнью. И я не заметил, нарезал и бросил в бурлящий бульон, испортил суть пищи.
Проглотил. Выдержал спазм отвращения. Надо поесть. Подумаешь, плесень…
…Ушла; вчера, в три часа дня, почти сутки назад. Ни письма, ничего, только надпись на зеркале…
…А что, если она здесь, в этой многоэтажке, в одном из соседних домов, в такой же пустой квартире, укрылась там от подступающего безумия, спряталась, затаилась?
Я вскочил. Это возможно?!
Нет, нет, нет. Погоди. Зачем это ей? Она не такая. София не прячется, она действует, пробует. София живет.
Ощутил вдруг: жутко хочется выпить.
В навесном шкафчике — «Неро д'Авола», порошковая мутная жижа цвета перебродившей крови. В зеленой бутылке чуть больше четверти; и еще одна не почата. Налил в стакан, из которого обычно пил по утрам подобие кофе. Не чувствуя вкуса, опрокинул в себя половину; багровая струйка потекла из уголка рта. Утер ладонью, налил еще. Уставился в одну точку.
…Но почему я уперся в эти вчерашние три часа? Может, она покинула дом лишь недавно. Провела день, вечер и ночь в одиночестве, и утром что-то случилось.
…Ягодные тона, привкус свежей земли. Это зависит от почвы, от года, от количества солнечных дней и осадков; так говорила сестра. Однажды она привезла со стажировки домой пару бутылок орегонского «Пино нуара» из долины Уилламетт. Урожай хорошего года — так она тогда нам сказала. Я уже был старшеклассником, и мне разрешили попробовать — но всего лишь один глоток. Этот вкус, глубокий и терпкий, густой, казался тогда просто запретной прихотью взрослых, не ясно отчего причмокивающих губами, с наслаждением щурящихся. Аромат ежевики, лакрицы, черт знает чего еще; испортившийся сок. Сейчас же я чувствовал чью-то как будто бы рвоту. И невыразимую горечь.
…Суррогат. Мимикрия. Подделка.
Долгим глотком прикончил остатки. Взял тарелку за край, проследовал в туалет и вылил горячую жидкость в унитаз. Вкус стал совсем нестерпимым. В голове шумно горела тяжесть, пульсировала едкая пустота. Еда и питье, все вокруг было покрыто невидимой плесенью.
…Она скоро вернется — как и всегда. Разве ей нельзя выйти из дома? Она взрослая девочка…
Поставил тарелку в раковину. Собрался захлопнуть дверцу шкафчика; там, в глубине, застыл силуэт. В зеленом стекле корчилось отражение: серый призрак с провалами черных глазниц. Отпрянул прочь. Мелькнула стена. Имена, лица и голоса перемешались в гудящей моей голове, посыпались вдруг отовсюду в сознание. Дернулся в ярком свете угол коридора; я перекрыл собой лучи солнца. Реальность собралась перед глазами. До болезненной рези выкрутила четкость и явила грузную фигуру: Бушлат. Насилующий. Оскопленный. Добитый. Сгорбленный в промерзлой земле.
Как он заставил ее это сделать?
…Как я заставил ее это сделать?
Сделалось страшно. Обронил стакан на столешницу; прозрачное полое тело откатилось к стене. Багровые капли лениво дрожали на дне, слившись в единый узор безнадеги. Эту кляксу расщепил солнечный свет.
…Где-то внизу подо мной… Где-то одна без меня… Зачем-то в этом холодном городе, для чего-то вдруг разлученные…
Развернулся и выхватил из шкафа бутылку. Громыхнул вилками-ложками, различая в кухонной мелочи штопор. Срезал этикетку с горлышка, впился острым концом в пористую пробку. Глухо, с сопротивлением та вышла из чернеющей зелени. Густо пахнуло землей.
…Она скоро придет. Улыбнется мне, тихонько расскажет какую-то ерунду. Потреплет по голове, смешливо сощурится. И я вновь буду счастлив — с ней.
Стакан; его края приняли струйку насыщенно-алой жижи. Наполнена и тут же выпита половина. Отвратительно. Жжение в горле, боль в ребрах. На нёбе склизкая пленка. И тут же, без паузы, еще половина. Инь и Ян. Скрутились в спазме на дне желудка.
Самым ужасным, то, отчего испытывал страх, было понимание. В костном мозге и лейкоцитах, повсюду в теле и разуме отменили ментальный фагоцитоз — я понимал, и ничего не мог сделать. Понимал простую дурацкую мысль: София ушла…
…Если Бог хочет наказать, то прежде отнимет мудрость…
2
Мир шатался. Щеки горели, дрожали уголки рта, знакомые стены ощерились невиданными доселе трещинами. Тускло блестели струны гитар. Шкаф распахнут; ее запах ударил в меня из хлопково-синтетической затхлости. Светлые джинсы в обтяжку, свитер кобальтового цвета, черные замшевые сникерсы. Еще куртка; Софии она никогда не нравилась: цветастое хаки напоминало ей о военных, а те — смерть и войну.
Сгреб одежду в охапку, взглянул за окно: там Солнце играло с Землей. И горел крест, ослепляя, золотом стекая на купол, бил во все стороны сквозь черные ветви фантастическими лучами. Деревья замерли; ни единого порыва ветра. Белое и черное, синее и оранжево-желтое: будто застыла акварель вдохновленного ребенка. Сквозь серое марево дрожала линия горизонта. Залив дышал холодом.
И я тоже дышал — ее запахом. Жадно, как в последний раз.
Что-то насвистывал — тупую мелодию для идиотов. Прекрасный выбор, прекрасные обстоятельства — так почему бы и нет? Для недолгого пути в четыре лестничных пролета вполне подойдет. Эхо весело скачет — вверх и вниз, по серым холодным ступеням, по закопченному потолку, по стенам, по бесцветным дверям. В руках целый гардероб; сменяется акт, антракт, время перевоплощений. В буфете кончилась выпивка, актеры пьяны. Зрителей нет, но драма пестрит от аллюзий, в окна ломится солнце, я один, я спускаюсь к тебе, мы встретимся скоро, мне страшно подумать, мне трудно дышать; тело болит и пусто от боли!..
Шумно сплюнул на лестницу. Заставил себя прекратить ход несвязных мыслей. Нашел взглядом цифры: один, три и девять. Вставил в скважину ключ. Дверь подалась навстречу, ткнулся в лицо холодный сквозняк. Как вор втиснулся в дрожащую от солнечного света щель. Громыхнул засовом. Увидел ее, промычал околесицу под нос. Тут же забыл сказанное. Здесь все заливало солнцем, пахло выстуженным бетоном, и висела холодная тишина, и как на палитре перемешались краски: антрацит въелся в желтое, превращаясь в мед, шафран и дижон; чья-то изощренная рвота. И в ней — она. Копия.
На мгновение сердце мое съежилось от любви. Нахлынуло счастье — и тут же ушло, откатилось волной в иссохшее дно древнего моря.
— Раздевайся, — приказал я тоскливо. Не сразу расслышал ответ чувственных полных губ:
— Может быть, включим музыку? Как насчет первого альбома «Archive»?
Точно током пронзило сознание. Не от названия банды — ее я знал хорошо, их дебютный трип-хоп середины девяностых действительно был прекрасен, — но от самого предложения, от его контекста, от говорящего, от скорости, с которой она вдруг встала с кресла и сбросила на пол легкое пальтецо; флис взорвался изнутри, оголил плечи, ключицу. София вытянулась, застыла в истоме, и в меня ударило белизной нежной кожи.
— Флейта и гитарное соло в последней четверти «Headspace» изумительны, — убеждала София, переступая с голой ступни на ступню, облаченную в белую гетру, отставляя ноги и ягодицы каким-то хитрым образом, становясь и стройнее и шире одновременно. — Почему бы нам не трахнуться на полу?
Жизнь выкачали из тела, превращая меня в чучело мужчины — с перекошенным лицом и вздыбленным под тканью одежды членом. Кровь вскипела, глаза заслезились от яркого света. Пульс; бешеный пульс! — бил, разрывался в висках, в венах рук, и особенно яростно в жарком паху. Невидимый ритм хлестко пронзал мышцы; будто вокруг нас уже звучала та самая музыка, будто и копия была пьяна, будто она танцевала, изящно и агрессивно, сокращая дистанцию между нами.
— Сядь обратно! — прохрипел я, желая совершенно иное. Она застыла на миг, словно бы недовольная новым приказом, рухнула в кресло. Я ощущал волну, исходящую от нее, впитывал дикую ретрансляцию основного инстинкта.
— Конечно, здесь мягче, — на свой лад поняла меня кукла, продолжая исполнять первоначальный приказ: распахнулась рубашка, сползла по прямой спине вниз, являя великолепную грудь. — Если любишь долгую прелюдию, рекомендую «Finding it so hard», она длится семнадцать минут и семнадцать секунд; тебе нравится это число? — не много и не мало, в самый раз…
Заткни же свой рот! Что ты несешь, чертова тварь?! Мы не будем… мы будем… с тобой…
Вдруг понял, откуда мне так знакомы названия: эту британскую банду любил слушать Николас.
Повело на свет, на сияние солнца. Выронил вещи у женских ног, припал на колени, задрал голову: ступни, налитые икры, левая — скрытая сетью чулка, — и дальше, и выше; бедра, округлый подъем под черным узором, плоский живот. Это она; но нет запаха, нет ни единой нотки ее аромата.
Рванул прочь белую гетру. Узор тонкой полоски белья — огрубевшие пальцы вцепились в черное кружево, потянули. Ослепительно вскрикнула кожа, и мелькнул темно-розовый разрыв между мирами — моим и ее. Навстречу неслось откровение. Отвел взгляд, поймал слева багровую надпись под ячейками сетки, прочитал-проглотил слово «Шлюха», и вновь посмотрел. Это мертво? Из этого явится жизнь? Туда можно втолкнуть всю свою жизнь? Уместить любое число…
…Почему не играет чертова музыка?!
И нет запаха. Морозная пыль. Луч из Космоса. Тошнота. Рви эту тряпку! Тащи к чертям вниз! Тошнота. Пульс в паху, в висках, на кончиках пальцев. Обнажена. Расставлены ноги. Соски целятся в мир хищными пулями. Вот трещина чувственных губ в черной краске; она готова, она возжелала!..
— Встань.
Отупляюще качнулось тело перед глазами. Копия поднялась с кресла, и я застыл, уперся лбом о лобок. Будто молитва, просьба о милосердии; или проклятие: прикован к ней, давлю пальцами горячие бедра, и белая кожа меж ними взрывается темно-розовым.
Почему нет запаха? Должен быть запах…
…она же мертва!
Но и у смерти есть аромат…
— Одевайся.
— Ты передумал?
Я передумал?!
Тяжело задышал, затряс головой, не понимая, что происходит. Ее вопрос еще гремел в моей голове, а я вскочил на ноги, вновь схватил черную невесомую ткань и резким движением скрыл самое сокровенное. Белье матово засияло, и я отчетливо разглядел на нем капельки перламутра.
Это ведь то белье, что было на ней, когда прямо здесь мы…
С удручающей пьяной тоской я смотрел на тряпицу. Черная ткань впитала частицу меня, и теперь покрывает собой эту мертвую плоть. И что это значит? Какое-то зашифрованное послание от Софии или просто нелепое совпадение? Я в самом деле лишился рассудка, наделяя смыслом бессмыслицу…
Представил себя со стороны: вот нависаю над полуобнаженной девушкой, с кривой физиономией размышляю о грязных трусах. Приказал ей раздеться — зачем?! — и тут же, ослепленный соблазном, испуганный, поспешил облачить плоть в доспех, в защиту от себя самого.
…Облачить плоть в доспех. Нужно облачить плоть.
Джинсы на узкой талии, коротко взвизгнула молния. Руки на ее бедрах, она вжата подо мной в кресло; совсем как когда-то давно; жадно, с надрывом, по-настоящему. Еще немного, и я припаду губами к груди, протолкну упругий сосок внутрь горячего рта, чуть прикушу зубами. Нет, этого не произойдет. Это симуляция другой жизни. Здесь события реверсивны, запущены даже и не в прошлое и не в будущее, запущены внутрь себя. В прошлом я раздевал ее, сейчас одеваю. Тогда обожал, теперь ненавижу, боюсь. В прошлом мы оба были людьми.
— Подними руки.
Грудь колыхнулась, мелькнуло что-то навязчиво-белое: гетра на правом предплечье. Развязал тугой узел, обнажая багровые шрамы. Через руки и голову покрыл светящееся на солнце тело кобальтом. Образ гиноида сразу и вдруг переменился: передо мной сидела девушка-студент, босая, взлохмаченная, сдающая странный экзамен, сдающаяся мне; кончики пальцев тянутся к серому потолку, и черные ногти каплевидными нотами оттеняют этот бетонный лист без нотного стана. Но почему у студентки такой дикий вид, и почему у молодого мужчины перед ней — то ли сокурсника, то ли экзаменатора — явная эрекция и маниакальное выражение лица?..
Как во сне одел на копию пуховик: блеклое хаки поглотило стройное тело до самых колен.
— Сядь обратно. Молчи, не вставай.
Суетливо смял рубашку и гетры, кинул на подоконник. Под окном сгрудился силуэт переломленного пополам человека — кашемировое пальто. Поднял его; звякнули осколки стекла. Парусом натянулся зеленый плед в двери балкона: во дворе гулял ветер. Свернул мягкую ткань, пересек квартирку. Пальто исчезло во мраке под ванной. Толкнул ладонью смеситель, прислушался к далекому хриплому шуму: по трубе поднималась вода. Зашипев, изверглась из крана, ударила в белую раковину. Подставил руки под струю, умыл лицо, шею. Кровь отхлынула от низа живота, отхлынула, наконец, и хмельная, тупая веселость. Вышел в коридор и пошатнулся от мощного, поглощающего все остальные звуки колокольного звона. Какофония била будто бы отовсюду, настойчиво стучала в лист входной двери, ломилась, треща, сквозь оконные стекла, грозилась сорвать собой шерстяную заплату, ворваться потоком плотного звука, повалить на пол девушку в кресле. Гремели благовестники, им вторили подзвонные, надрываясь, хлестко и высоко лопались в шумном потоке связки малых колоколов. Это звучал сам хаос, зазывая адептов на свою литургию.
3
Навалился всем телом на дверь черной лестницы, и в лицо, не стесняясь, радостно ударило солнце. С холма били в набат, и сквозь этот размеренно-хаотический бой доносилось тревожное карканье сотен ворон. Не сразу перед пустующими сейчас санями разглядел полицейский «Форд». Стало жарко и обжигающе холодно сразу. Внутри на водительском месте кто-то сидел. Я вжался спиной в стену дома, но тут же толкнул свое тело вперед. Хрустнул снег под ногами, и внизу затряслась коричневая от стылой грязи тропа. Меня заметили, хлопнула дверца автомобиля. На шоссе появился человек в черной куртке. Круглое белое лицо, короткая элегантная стрижка с проседью в волосах болотного цвета, цепкий взгляд серых глаз: капитан Моравский собственной персоной. Он посмотрел на тройку лошадей, хмыкнул себе под нос, затем повернулся в мою сторону. Полез в карман джинс, достал красную пачку, закурил, прикрыв огонек зажигалки широкой ладонью. Пахнуло дешевым табаком.
— На ловца и зверь бежит, — услышал я сквозь нескончаемый звон уставший, но довольный голос. — Добрый день, господин Сегежа. Как раз к вам хотел заглянуть, а тут как грохнет.
Он затянулся, с удовольствием закрывая на секунду глаза. Круглое лицо вытянулось, и через сложенные трубочкой губы повалил сизый дым. Я молчал.
— А и пахнет, однако, — капитан покосился на смирно опустивших к снегу головы лошадей: от лоснящихся тел животных действительно доносился крепкий, густой запах. Моравский вдруг вскинул указательный палец вверх и несколько наигранно произнес:
— «Разного рода мысли и чувства возбуждает простота деревенского храма. Одинок и построен на разложистом мысе, которого подножие омывает тихое озеро». Это из Грибоедова, кажется. Представляете, он писал об этой дыре. Озеро может и тихое, но вот все остальное довольно-таки шумное. И часто у вас здесь такое? Насколько я знаю, церковь давно не действующая. Чья это тройка? Выглядит знакомо.
Капитан нахмурился, уставился на меня.
— Что с вашим лицом?
Вытянулись уголки рта в стороны, скомканная улыбка отозвалась жжением в ссадинах.
— Да так, ерунда. Что-то случилось?
Вопрос был наиглупейшим. Нечто огромное, выедающее собой здравый смысл, понимание чего бы то ни было заменило собой бесконечную череду вопросов к этому человеку. Серые глаза его вспыхнули удивлением, тут же пропали за сигаретным дымом, и внезапно я осознал, что вокруг нас повисла гулкая тишина, разряженная криками галок и хрипом ворон. За спиной, между стен башен, негромко насвистывал атональный мотив ветер.
— А разве ничего не случилось? — насмешливо спросил полицейский и запустил дымящийся окурок в сугроб. Кончик его приплюснутого носа дернулся, влажно всхлипнул.
— Давайте пройдемся.
Он развернулся на каблуках, выдавливая на снегу почти идеальный круг. Черная куртка казалась еще чернее на кряжистой спине. Очевидно, уверенный в том, что я пойду следом, капитан не спеша пересек первую полосу шоссе, оказался на островке безопасности. Обернулся.
— Ну же, господин Сегежа. Это не займет много времени.
Тело парализовало, отказывало двигаться. Для чего он идет в сторону кладбища? Что ему надо там?
— Что с вами? — с неподдельным интересом спросил Моравский, пристально всматриваясь в мою фигуру. — Вы побледнели. Вам плохо? Давайте я помогу.
Он снова ступил на промозглый ущербный асфальт. Стал заполнять собой мир широкими росчерками.
— Все хорошо, я просто, должно быть, выпил вчера лишнего, — пролепетал я, и вправду чувствуя спазм тошноты в горле. — Я и вышел, собственно говоря, чтобы прийти в себя…
Опустил ботинок на полотно дороги. Негнущимися ногами прошел несколько метров как сквозь кисель. В ушах тихо-тихо шумело неизвестное никому море. Сзади молчали дома. Впереди чернел кладбищенский холм.
— Вчера? Что-то отмечали с супругой?
— Да, с женой вот решили…
Заткнулся. Увидел нахмуренное круглое лицо.
— И это было вечером?
— Определенно стемнело, так что да, и даже скорее ближе к ночи, мы иногда… Иногда, знаете…
Капитан хмыкнул.
— Да уж могу представить, не маленький.
Я поравнялся с ним. Заглянул в серые цепкие глаза.
— Куда мы идем?
— К церкви. Вам разве не интересно, кто устроил все это светопреставление? Я не при исполнении, но шваль, оскверняющую святые места, терпеть не умею. Идемте.
Не при исполнении?..
Вместе молча перешли вторую полосу. Миновали одноэтажное строение; до Войны здесь было здание воскресной школы. Оказались на широком асфальтовом пятаке, бывшей автостоянке. Впереди замаячили покрытые льдом ступени, ведущие вверх через укрытые снегом могильные холмики под влажными стволами вязов и сосен. Кладбище начиналось сразу и вдруг. Черное воинство укрывало в себе белый храм, размеренно качаясь, скрипя, роняя ветви в сугробы, на бурую кашицу троп. Выцветшая синяя краска старых крестов блекло и грустно, даже стыдливо, выставила деревянную плоть напоказ в глубине полумрака холма. Чье-то лицо строго смотрело на нас с гранита, покрытое сепией. Ярко и неуместно празднично то тут, то там алели, горели оранжевым искусственные цветы.
— А ну-ка, — произнес Моравский и встал, как вкопанный. Сверху от церкви спускались двое. Тонкий, изящный даже в окружающей скорби, наголо обритый мужчина активно жестикулировал руками, громко и мелодично апеллируя к спутнику. Давешний русский мужик, все такой же огромный и добрый, с растрепанной бородой, в каракулевой шапке, в рыжей шубе, обстоятельно и с достоинством ставил каждый свой шаг по заиндевевшим ступеням. Чисто и звонко он возражал прыткому визави, широко разводя руками. В войлочной рукавице его что-то блестело.
— Ma è vero! C'è un morto in quella cappella! — разобрал я высокий гнусавый голос.
— Идем, тебе говорят! Лошадям надо корму задать, посмотрели и ладно, всю ночь с тобой, остолопом, возился, из-за тебя пол округи, небось, на ноги поставил…
— È tutto nel sangue, torniamo indietro!
— Да не понимаю я! Не в сети мы, мил-человек, сейчас отъедем подальше и все порешаем…
Они, наконец, нас увидели. Итальянец дернулся, испуганно вжал блестящую голову в ворот дубленки. Ямщик как будто бы выругался и встал посреди тропы.
— Полиция, капитан Моравский! — мой спутник потряс в воздухе темно-синей книжицей; при этих словах и жесте сеньор Маттео выпучил оливковые зенки и воодушевленно заулыбался, собрался было скатиться вниз по ступенькам, но его тут же схватила ручища извозчика.
— Стой, дурак, у нас тут каждый второй капитан да майор, а мне за тебя потом отвечать! Стой, говорю!
— Signor carabinieri! — залепетал иностранец, пытаясь вытряхнуть самого себя из дубленки.
Я вышел вперед, встретился взглядом с голубыми глазами под черной нелепой шапкой. Ямщик узнал меня, удивленно и громко присвистнул, запуская рукавицу в русую бороду.
— Ох ты ж, разбудил, небось, тебя из-за этой бестолочи? Это я из него бесовщину выбивал. Ходил тут, смотрел, рылом водил по росписям, в звонницу просочился, ударил-таки разок, еле выгнал, а потом куда-то исчез, лиходей. Я прикорнул на скамеечке, через часик очнулся, туда-сюда сунулся, пропал человече! Позвал его раз, другой, глядь — под рябину забился, бледный весь, трясется, чего-то лопочет. Ни черта не понятно! Мой старичок тайваньский на ладан дышит, а тут, как назло, совсем связи нет, переводчик заглох, хоть ты тресни; я, дурак, и скачать не успел накануне. Тряхнул я его, снегом рожу умыл, а ему все неймется! Ну, думаю, католик, не иначе встретил кого на кладбище, ляпнул чего-то, обидел. За шкирку его взял да наверх. Звон колокольный, он кого хочешь почистит, скверну всю выбьет!
Моравский внимательно слушал, а я холодел с каждым словом извозчика. Тот прищурился и спросил недоверчиво:
— А правда: капитан? В штатском или как я — ряженый?
Ямщик усмехнулся в бороду, подталкивая итальянца вниз. Итальянец вновь затянул свою гнусавую мелодию, беспрестанно указывая на холм:
— Signor carabinieri, ascolti, tutto è coperto di sangue!
Никто не понял ни слова.
— Сейчас разберемся…
— А чего разбираться? — грузно упер руки в бока ямщик. — Я все как есть рассказал. В колокола испокон веков били. Имущества в храме нет, ни икон, ничего. Да, зашли, но это что — грех разве? Чего святому месту пустым стоять, коли оно для живых?
— Возможно мародерство… — осторожно сказал капитан.
— Да ты чего, родной? — громыхнул извозчик, сложил три пальца в единую точку, повернулся к холму, отдал земной поклон и трижды размашисто перекрестился: ото лба к животу, от правого плеча к левому. Итальянец вдруг мелко затрясся, припал на колено, забормотал на латыни. Капитан явно смутился.
— Побойся Бога, служивый! Напраслину возводишь!
Голубые глаза сверлили серые.
— Да я так, предположил только, — еле слышно сказал Моравский.
— Православного в таком обвинил! — не успокаивался ямщик. — Да хоть и римского еретика! Он же в того же Иисуса верует что и мы! Правильно я говорю, сеньор Маттео?
Сеньор вскочил на ноги, отряхиваясь, вскинул огромный нос. Доверительно загнусавил, хватая Моравского за черный рукав:
— Devi venire con me. Questo idiota non mi crede!
Слово «Идиот» было понято всеми. Капитан изменился в лице. Приосанился.
— Так-так, оскорбление представителя власти при исполнении!
Итальянец улыбнулся, заискивающе заглядывая глазами-маслинами куда-то за шиворот капитана.
— Ох, вам бы все оскорбляться, — хохотнул в бороду ямщик, хватая своего подопечного под руку, собираясь спуститься к нам на асфальтовый пятачок. — Чего на иностранца взъелся? Идиот — это диагноз. И почему это ты сразу на себя определил? Может, он мне это сказал или вот ему…
— Вы из какой организации? — подобрался вдруг Моравский, вытягиваясь, стараясь выглядеть внушительнее и больше; на фоне богатыря в рыжей шубе это казалось сложновыполнимой затеей даже для него. — Лицензия на извоз у вас есть? Документы у иностранного гражданина имеются?
— А как же ж, — важно ответил ямщик. — Прошу до саней. Там и явлю.
Он вдавил подошву в ледяную корку, хрустнул с особым удовольствием черной тонкой веткой.
— Пойдем, Мотя, водки тебе налью! Закоченел ты совсем.
Мотя понял, что обращались к нему, понял, видимо, и еще одно слово. Он всплеснул руками: в этом жесте была целая гамма эмоций.
— C'è un morto sdraiato lì, ma dagli della vodka! Non capirò mai la Russia…
— Да погоди, остолоп, дай до саней дойти, — добродушно сказал ямщик, хлопнув гостя из Италии по плечу. — В ушах до сих пор гудит, умели раньше отливать мастера…
Он широко улыбнулся и вразвалку прошел мимо нас. Итальянец увязался за ним, обескураженный, бормоча себе под нос какие-то, видимо, проклятия. От него разило изысканным парфюмом вперемешку с похмельной кислятиной. Моравский неодобрительно посмотрел им вслед.
— Давайте-ка, — негромко сказал он мне, — глянем на их документы.
— Конечно, — отстраненно ответил я, щурясь от солнца, что отразилось вдруг в окнах высоток.
Капитан покрутил у лица заламинированный пластик, еще раз прочитал вслух:
— Общество с ограниченной ответственностью «Русская сказка». Сотрудник — Рассказов Иван Афанасьевич. Лицензия выдана Комитетом, угу, угу, лицензия номер, угу… Ну допустим…
Он вернул плоский прямоугольник Ивану Афанасьевичу.
— Так для чего вы на колокольню полезли? — скучающе спросил полицейский, морща сплюснутый нос. Сильно и густо пахло лошадиным навозом.
— Да говорю же — бесноватый, — кивнул черной шапкой в сторону саней ямщик; там под слоем шкур и цветных лоскутов, закутавшись в пуховое одеяло, убаюканный двумястами граммами водки, совсем как младенец — лысый и гладкий, — мирно спал Маттео Малиньи, уроженец солнечной Калабрии. — Как есть, нечистого встретил! А на Руси что? — правильно, колокольный звон. Вот и на тройке моей бубенцы, от любой напасти оберег. Это такая звуковая волна, у которой функций полезных пропасть. Резонансное ультразвуковое излучение не токмо на тело, но и на душу благоприятно воздействует.
Он прочистил горло и вдруг звонким альтино запел:
— Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном,
Твердит о счастьи необъятном
Далекий звон колоколов!..
Цокнул языком и громко добавил:
— Задам лошадкам и помчимся!
— Ну тогда счастливого вам пути, — сказал Моравский, водя серыми своими глазами по чистому синему небу. — Постарайтесь впредь общественный порядок не нарушать.
Ямщик развел руками, намереваясь возразить, но капитан строго зыркнул на него, качнул головой.
— Езжайте, говорю. И вот еще что… Хватит с него водки, наверное.
— Так это же часть программы, — зашумел Иван Афанасьевич, — за все уплочено!
Но Моравский уже отвернулся и от ямщика, и от разукрашенной тройки, обратился ко мне негромко:
— Пойдемте, Глеб Владимирович…
От собственного имени-отчества дернулся рот. И совсем рядом заржали лошади. Я не мог понять, показались мне эти звуки или это было на самом деле.
— Куда?
— Обратно.
— Зачем?..
— Ну как же. Посмотрим, что за нечистого они там нашли.
Звякнул колокольчик. Заскрипели сани, и вмерзший в полозья снег оглушающе треснул.
— Доброго вам дня, судари мои!
Капитан вскинул руку:
— Всего хорошего, Иван Афанасьевич!
Я не мог разлепить влажные от дыхания губы. Не мог обернуться. Не понимал куда смотрел и что видел. Вокруг был лишь холод, пронзительный зимний день. Где-то на кладбище крикнула галка.
4
Церковь казалась одним огромным сугробом. Слепящий золотом перечеркнутый крест с поверженным полумесяцем неистово горел над запорошенным снегом куполом звонницы. Над буро-охровой дверью зияли сумраком пролеты трех вытянутых кверху тонких окон. Наши шаги спугнули с ветвей рябины стайку давно не виданных мной снегирей. Красные грудки мелькнули в синеве неба, пропали.
Солнце стояло в зените.
— Чудесный день, — негромко проронил капитан. Кинув взгляд на синие кресты могил, он поднялся по скользким гранитным ступеням к дверям в два с половиной человеческих роста и ухватился за медную ручку. Навалился плечом — заскрипели массивные петли.
— Заглянем-ка…
Растерянно кивнул. Я глядел себе под ноги. Пытался разобрать в месиве снега и земли следы наших предшественников. Вот они: широкие, будто медвежьи, кружили окрест, вдавливались тяжестью, пересекали сами себя, вытаптывая снег до почерневшего камня. И изредка в этом хаосе тонкой цепочкой можно было разобрать отпечатки вытянутых и узких следов с мудреным рельефом. Тонкие и изящные, они вели прямой линией от церкви наверх по тропе вдоль темных решеток, и с печальных своих портретов смотрели на холм мертвецы. Я знал: там, среди корабельных сосен, на самой высокой точке над озером укрылась часовня из красного кирпича. И туда вела цепочка этих похожих на лисьи лапы следов.
Капитан исчез в дверях храма. Быстро, широкими движениями ног я втоптал лисьи следы в снег, запорошил их, смешивая с землей и листьями, превратил узор под собой в серую мешанину. С тоской проследил за узкой тропинкой; я отрезал пуповину у плода, но сам плод — каким бы он не был — укрывался в темных глубинах холма. Меньше всего сейчас было нужно, чтобы полицейский стал рыскать по округе в поиске неведомых бесов.
Вздохнул и поднялся по лестнице вслед за Моравским. Встал у огромных дверей. Ощутил въевшийся в само бытие запах пыли и ладана; изнутри било странным неестественным холодом: так бывает, если плывешь в прогретом августом южном море, и внезапно со всех сторон охватывает ледяной поток подводного течения.
— Никаких чертей, — как будто разочарованно произнес Моравский. — Пусто. Давайте-ка…
Он хрипло закашлялся. Холод здесь пробирал до костей. Пустое, точно вывернутое наизнанку нутро храма равнодушно встретило нас голой штукатуркой и бледно-коричневой, усыпанной то ли пеплом, то ли грязным пухом, каменной плиткой. Ни икон, ни распятий. И только в давящей высоте купольного барабана сияла тусклая позолота огромной небесно-желтой фрески: сцена из ветхозаветной истории, словно кадр, сделанный фантастической машиной времени.
— Давайте присядем, — отдышавшись, закончил фразу капитан, прочищая горло. Серые глаза блеснули от влаги в уголках век. Я оглядел темное пространство церкви, с трудом различил деревянную короткую скамью в одной из чернеющих ниш в стене. Поежился. Эта вымороженная пустота пугала. Гулкое эхо прыгнуло из-под ног Моравского, лениво ударилось в стены, возвращаясь к нам, переваливаясь и кряхтя. Скрипнула скамья под его грузным телом.
— Ну что же вы? — сипло, с натугой спросил он. Я двинулся с места, разрезая собой пыльную холодную темноту. Попал в прямоугольник света и тут же снова как будто пропал. Сел совсем близко от капитана. Ощутил застоявшийся запах табака и нечто, похожее то ли на кошачью мочу, то ли на вино сорта Совиньон Блан. Под приплюснутым носом и на щеках разглядел волоски черной щетины. Темная куртка сливалась со стеной, над воротом качалось бледное полное лицо.
— Как я уже говорил, я не при исполнении, — сказал Моравский. — С сегодняшнего утра меня отстранили от какой-либо профессиональной деятельности в полиции на неопределенный срок. Я здесь по личным причинам, не по служебному долгу. Вы слушаете?
— Д-да… — рассеянно ответил я, ежась от холода.
— Вчера я потерял бойца. Еще двое были ранены. Я провалил операцию, которую сам же и спланировал. Сейчас мне хочется хорошенько напиться, исчезнуть на пару недель к чертовой матери. Посидеть на льду Вуоксы; любите зимнюю рыбалку? — с хриплым придыханием капитан встрепенулся, скрипнул скамьей и курткой одним протяжным странным звуком. Я чувствовал: лицо мое горело. Кожа плавилась, предательски рдея, становясь пунцовой. Но взгляд капитана тоскливо шарил по стенам, спотыкаясь о пустоту.
— Что произошло? — негромко спросил я. Тело под пальто словно сунули в протопленную баню. Моравский посмотрел на меня, и я замер. Лицо говорящего не являло ни единой эмоции.
— Тот панк, этот ветеран войны или за кого он себя выдает, сбежал на этапе. Ублюдка объявили в федеральный розыск.
Пальцы сжались, вцепились в край скамьи; сквозь ткань перчаток ощутил текстуру грубого стылого дерева.
— Вчера вечером мы получили информацию из проверенного источника о его местонахождении. Без уведомления начальства — на то были причины — я организовал рейд. Итог оказался плачевным…
Лицо капитана оставалось бесстрастным. Голос походил на автоматическое уведомление.
— Но зато, — он вдруг встал с места, загородив собой этот укромный уголок церкви, расстегнул молнию на куртке, — теперь у нас есть вот это.
Рука исчезла на миг в темной трещине на одежде. В пальцах Моравского матово поблескивал красный миниатюрный прямоугольник.
— Что это? — спросил я, оглушенный.
Флешка. Чертова флешка!
Пустая?..
Капитан уселся обратно, протянул мне свой трофей. Стянув перчатку, как во сне я обхватил холодный металлический корпус. Не сводил глаз, не верил.
— Там видеозапись тех событий. Все так, как вы и говорили на допросе; все так, как это видел и я.
Сжал в руке. Мир уменьшился, и близко-близко забелело полное лицо.
— Видеозапись?..
Я не притворялся. Действительно не мог поверить в происходящее.
— Есть еще копии. Я отправлю их куда надо в нужное время. Я готов подтвердить ваши слова. Только и мне, в свою очередь, нужно, чтобы вы от своих слов не отказывались.
Шумно и глубоко я вдохнул воздух, пропитанный пылью и ладаном. Блеснуло тельце флеш-накопителя в отсвете солнечных лучей.
— Постойте! Вы можете объяснить толком, что происходит?
— Странная у вас, однако, реакция, — насмешливо произнес капитан. — Конечно, могу. Эту флешку обронил подследственный во время вчерашней операции. Куда и зачем он пытался ее унести — неизвестно.
— Но почему вы мне ее отдаете?..
— Вы, кажется, несколько недовольны этим фактом?
— Нет, я… Я просто… — залепетал, сбитый с толку. — Разве вы обязаны это делать? Разве это законно?
Полицейский качнул головой.
— Вы, похоже, совсем не понимаете, что происходит; вы и не должны понимать, конечно же. Я делаю это на случай, если остальные копии не дойдут куда следует. Та девушка…
— Девушка?! — с жадностью, с какой-то дикой силой вдруг прохрипел я. Вскочил со скамьи, отступил вглубь церкви. — Вы до сих пор не поняли, что это гребаный кусок пластика?!
Человек на скамье хлопнул себя по бедру широкой ладонью. Голые стены застонали, вздрогнул и куда-то в сторону пополз купол над моей головой.
— Тише, господин Сегежа! Да, это, как вы справедливо заметили, кусок пластика, и поэтому я прошу вас объяснить мне…
Язык вывалился будто из пересохшего колодца — распухший, безобразный, весь в белом налете. От ярости колотилось, билось о ребра сердце.
— Объяснить? Что, мать твою, объяснить?!
Свистящий хрип осквернял это место, драл глотку, царапал колонны. С фрески с тоской и прощением тускло сияла позолота. Я тяжело дышал.
— Эй, эй! Этого нам еще не хватало. Поговорим спокойно, без моей матушки и прочего. Ну же, Глеб, вдохни и выдохни, посмотри на меня, Глеб, посмотри!
Он мелькал в темном углу. Волосы с проседью отливали бледно-зеленым, и под ними колыхалась серая влажная радужка внимательных глаз.
— Я прошу объяснить именно это: как гиноид смог совершить то, что совершил. Ты был там и…
— Да откуда мне знать?! Влезьте ей в голову, господи, сделайте что-нибудь!
— К сожалению, — негромко сказал Моравский, — ни головы, ни какой-либо другой части тела больше не существует.
— Но ведь это улика! — бессвязно просипел я ничего не значащие для меня слова.
— Поэтому необходимо понять, как и почему кукла убила своего хозяина, а после покончила с собой.
— Это все, что ты хочешь знать?
— Это моя работа, — спокойно сказал Моравский. — Ничего сверхъестественного…
Из глубины тела ударила волна хохота: звук родился в желудке или желчном пузыре, или в печени, поднялся по пищеводу и вырвался наружу, стал охаживать пустую церковь по стенам хлестким эхом. Капитан поднялся с места, недоуменно разглядывая мое искривленное сейчас лицо.
— Что смешного? Чего смеешься?
Попытался выудить из потока звуков хоть что-то, похожее на слова. Захлебываясь воздухом, смог выдавить:
— Ничего… сверх… естественного!
И глумливый смех вновь полился под купол. Что-то схватило меня и встряхнуло. Злой голос ухнул прямиком в голову:
— Ну, говори!
Слабо сопротивляясь, я продолжал смеяться. Пальцы сжали красный предмет в кулаке; бессознательно я собирался размахнуться и ударить полицейского в лицо — эта бледная сфера была прекрасной мишенью. Гребаный, мать его, детектив на вольных хлебах, да пошел ты!..
Отлетел к стене в темноту. В спине вспыхнула боль, голова качнулась на шее старой игрушкой. Передо мной в прямоугольнике света чернела фигура Моравского.
— Я ведь пытаюсь помочь, идиот ты несчастный! Пытаюсь понять, что происходит! Это видео и твои показания стоят чертову уйму денег! Это бомба, ты понимаешь?!
Я слабо ухмыльнулся. Крепче сжал флешку.
— Как только ты заявишь, что гиноид убил человека и снес себе голову, и наглядно подкрепишь свои слова, начнется настоящий корпоративный ад. Господи, парень, ты вообще представляешь, на что способен теперь?!
— Ты себе помогаешь, — под левой лопаткой пробежал холодок, вертлявой змеей вполз меж ребер, лизнул диафрагму. Лицо мое сморщилось. — Гиноида нет. Заявлять мне нечего и незачем. Я просто хочу, чтобы нас оставили в покое. Чтобы мою жену не пытались изнасиловать в счет залога…
Силуэт под куполом дернулся, исчез в полумраке и возник совсем-совсем близко, обдавая влажным запахом сигарет и кошачьей мочи.
— Изнасиловать в счет залога?..
Не различая ни тела, ни лица перед собой, я произнес, выплевывая каждое слово:
— Тибо ван Люст, бельгийский консул, внес за меня залог в двадцать восемь тысяч евро. Если я не смогу его вернуть, он по доброте душевной согласен пять раз ублажить мою жену — меньше, чем через полторы недели. Такая вот история; ты разве не в курсе? Очевидно, с этим его шантаж уже не имеет смысла…
Уголки рта предательски дрогнули. Вытянул руку, разжал кулак: на ладони замер темный предмет.
— Но Тибо ван Люст ничего за тебя не вносил.
Я хватанул ртом воздух. Сидя в углу на полу, тупо уставился на фигуру передо мной.
— Что?..
— Я говорю, что Тибо ван Люст…
…Кажется, я завыл. Кажется, по лицу мне размазали чуть теплые слюни. Воздух все никак не мог найти дорогу в легкие. Зубы ударили о зубы, язык онемел, вспыхнул горячим чужеродным ошметком. Фигура протянула вдруг руку и выдернула меня из угла.
— …не вносил за тебя залог.
— А кто? Кто это сделал?..
Я пытался обнять капитана. Пытался схватить, влезть прямо в рот, стать для него неотвратимым поцелуем безумца. Мой шепот продирался сквозь нескончаемый вой.
— Да никто этого не делал!
— Что ты несешь, долбаный мент?!
Несильно и без замаха Моравский отвесил мне пощечину. Звонко раздался шлепок; я вдруг смог вздохнуть полной грудью.
— Не груби, успокойся. Господи, вот ведь характер. Говорю тебе еще раз: никто никогда не вносил за тебя залог! За что и кто должен был, по-твоему, это сделать?
— Но тот следователь… — голос был почти что бесплотен, — при свидетелях, там, в камере, заявил, что залог внесен… Сказал ждать повестки, не покидать Петербург…
Капитан изобразил на полном лице странную эмоцию, словно заранее удивляясь словам, которые собирался произнести; качнул головой, окинул меня внимательным взглядом.
— Литовцев…. Вот оно что. Меня отстранили — сразу, как только ты сказал тогда про гиноида, и про то, что я тоже свидетель. Отправили в отпуск за свой счет на пару недель. И вас шантажируют? Тибо ван Люст, консул, тот, что нанял тебя? Что он хочет?
— Софию, мою жену, — прохрипел я. Кожа на щеке горела от отрезвляющего удара.
— Нет-нет, это понятно. Что он взамен предложил?
— Снять с меня обвинение.
Моравский будто бы отшатнулся.
— Но ведь нет никаких обвинений! Дело даже не заводилось! Господи, да ты вообще понимаешь, что происходит с твоей жизнью, парень?
Я мотнул головой, задыхаясь. В кровь точно впрыснули дозу особо сильного транквилизатора: сначала ударил адреналин, а потом резко и вдруг наступило блаженное равнодушие, погружающее сознание в опустошающую эйфорию.
— …так мы были свободны?
— Да, — безжалостно сказал капитан.
Кто-то громко, бесцеремонно воскликнул:
— Антон? А ты тут какого хера?
Глухой голос треснул, заглушаемый шквалом вороньего карканья. Кряжистый низкорослый человек стащил с головы вздутую сферу, стянул черную балаклаву, являя лицо, отдаленно напоминающее одну давно забытую всеми рок-звезду. Взъерошенный желтый чуб на темечке с вызовом трясся над обритыми висками — одинокий пшеничный колос в убранном по осени поле. Компактное плотное тело облегало темно-синее облачение бойца спецбатальона полиции. За человеком, напряженно и хищно, застыли еще две точно таких же фигуры, клоны первого, низенькие и широкие, оттеняя собой заснеженное крыльцо.
Моравский сделал шаг им навстречу. Его маневр скрыл меня за черной спиной; в какой-то момент показалось, что я вообще пропал из этого мира. Снаружи надрывались, хрипели птицы.
— Дюша? Какими судьбами?
Мужчины замерли в недоуменных позах напротив друг друга. Дюша скривился.
— Так вызов был. Мол, колокола в церкви снимают. А у нас по мародерству все ж на личном контроле у самого. Да еще один бомбила заяву написал: угон транспортного средства, мол. А ты чего? Что у вас за ерунда на Охте творится? Слышал, вы в чужой район полезли, разборки теперь на самом высоком уровне, бойцов, говорят, потеряли. Ты сам-то по делу? Чего тут?
Черная ткань собралась морщинами на лопатках, явственно затрещала на вороте молния — Моравский повел плечами, пропадая и появляясь вновь в солнечных лучах.
— Личное. С приятелем вот общались. Консультирую по дружбе. Соседи музыку громко слушают. Ерунда.
— Так, а чего с колоколами?
— Звенели будь здоров. Мы сюда потому и пришли. Ничего интересного. Пьяный турист, гид ряженный недоглядел. Пошумели немного, короче, глупости. Я им внушение сделал, взял контакты и отпустил. Никаких мародеров.
Раздался разочарованный вздох.
— Бляха-муха, отбой, мужики! Ты и тут в чужом районе, Антошка, успел. Ничего нового, все тот же Моравский-старлей, впереди планеты всей. И как тебя начальство такого терпит…
— Капитан, — скромно поправил капитан.
— Ну, е-мое, капитан, поздравляю. А я вот за три года… Ох, да ну тебя! А чего вы, гражданин, к нам не обратились, с соседями мы б помогли. Вы наш? Где проживаете?
Вздрогнул, выныривая из странного полусна. Обращались ко мне. Я словно бы заново воплотился в собственном теле.
— Здесь, на Выборгском, — услышал я свой голос. — Да уже все нормально, спасибо…
— Хозяин-барин, — с нотками обиды произнес носатый блондин, теряя интерес к моей персоне. — Ладно, капитан, честь имею. Тут, конечно, не Охта, но дел тоже хватает.
Пшеничный чуб встал на миг дыбом, упал на влажный затылок. В глубине холма заскрипели ветви от резкого порыва ветра. Моравский зябко поежился, с интересом наблюдая за лицом коллеги. Перевел взгляд с одного блестящего шлема на другой. Те отражали в черном пластике деревья, небо и купол церкви. Отточенным ленивым движением Дюша натянул на голову балаклаву, затем шлем, прогундосил из-под этой своей фортификации:
— Ну что встали, гаврики, топайте!
Моравский вяло приподнял руку. Грузно заскрипев снегом, троица скрылась за углом белой стены.
— Дюша-Дюша, голова из плюша… — задумчиво произнес капитан, поглаживая бритый подбородок. — Каша в черепушке — это наш Андрюшка. М-да.
Он вдруг закашлялся, скривился. Широким шагом вышел из полумрака наружу и сплюнул в истоптанный снег. Какое-то время стоял согнувшись, глядя под ноги. Выпрямился и нашел меня взглядом.
— Вы в порядке? — разлепил я холодные губы. Что-то внутри меня успокоилось совершенно, решило, что существовать больше нет смысла, и тихо скончалось.
— Я-то в порядке. Просто не люблю зиму, а она не любит меня. Мне бы к теплому морю. Да что уж теперь…
Он поглядел куда-то ввысь. В серых глазах сверкнуло отражение золотого креста.
— А вот что с вами? — вправду думали, что находитесь под следствием?
Я не ответил. Он что-то искал там, наверху. Зрачки медленно отмеряли сантиметр за сантиметром. Широкий нос выдыхал горячий воздух. Я оставался в тени, на пороге гигантской двери.
— И вас шантажирует консул — удивительно. Вы что-то предприняли в связи с этим?
Мы вновь обращались друг к другу на «вы». Наши правила этикета не поддавались никакой логике.
— Например, что?
— Ну как же — можно было обратиться в полицию, уточнить свой, так сказать, статус, в Консульство, в любой орган власти. В газету пожелтее, в конце концов. Что-то ведь вы сделали?
— Ничего…
— Но почему? — бледная луна свалилась с неба на землю, уставилась на меня.
Действительно, почему?
— Не знаю…
— Вы поверили, просто взяли и согласились? Собирались отдать ему эту сумму? Ведь ваша жена…
Что-то в моем лице заставило замолчать капитана. Он вновь кашлянул, отворачиваясь, сплевывая на ступени, отирая ладонью рот.
— Да, понимаю, — произнес он задумчиво. — Это паника, шок. Не ясно, что правильно, а что нет. Вас просто уведомили; именно так и действует любая система. Но сейчас, когда все изменилось, вы намерены предпринять против консула хоть что-нибудь?
— Не знаю. Зачем? Нам просто нужен покой…
Капитан нагнулся к земле, сгреб пригоршню снега и принялся лепить снежок. Сосредоточенно и как-то зло вдавливал пальцами белую массу в саму себя, превращал холодный хаос в шар.
— Покой? Воля ваша. Но только что такое покой? Побег от реальности? Сможете ли вы избежать хотя бы вот это?
С этими словами он коротко замахнулся, прищурившись, и запустил в меня снежком. Беззвучно рассыпался плотный белый снаряд, заставляя тело чуть пошатнуться, оставляя молочную влажную пыль на груди. Снежок угодил прямо в сердце.
— Жизнь не предполагает покоя. Для покоя требуется смерть.
— Когда состоится суд? — громко, упрямо спросил я, ступая на снег. Со всех сторон ударил солнечный свет, ослепляя, выжимая из уголков век блестящую жидкость.
— Что? Суд? Вы еще не осознали? — вас никто ни в чем не обвиняет, наоборот, попытайся вы узнать, как там дела с вашим несуществующим процессом, все просто покрутят пальцем у виска Фемиды. Вас для нее не существует. Вы нежелательная персона, случайный свидетель без права голоса и социального веса; вы никто. Однако теперь все изменилось. Эта видеозапись перевернет их мир с ног на голову. Но сдается мне, вы обладаете не всей полнотой картины, и вам невдомек, что за дикая история вообще происходит. С вашей помощью…
— Я хочу, чтобы мою семью оставили в покое. Вот и все.
Капитан посмотрел на меня как на идиота. Сморщился.
— То есть, хотите умереть?
Отлепился от тени, обошел фигуру Моравского, спустился по занесенным снегом ступеням. Все вокруг превратилось в грязную кашу. За спиной раздался вздох.
— Куда же вы? Разве вам не интересно выслушать мои соображения? От этого вполне может зависеть ваша дальнейшая жизнь, уж простите за претенциозность слога. Ведь стоит им захотеть, персона ваша вновь окажется в жерновах системы, вас действительно смогут обвинить в чем угодно. Но с моей помощью это будет сделать практически невозможно.
Обернулся. Черная куртка пучилась от движения: капитан лепил новый снежок.
— Снова собираетесь запулить в меня снегом? — устало спросил я. — Я понял вашу аллегорию. Никуда мне от вас не деться. Все связано. И что дальше?
Он ухмыльнулся, погрузил кончики пальцев в белую сферу.
— Я потерял коллегу, мой дорогой Глеб, не для того, чтобы вы тут ядом плевались. Эта маленькая штучка стоила незнакомому вам человеку жизни, а еще двум другим предстоит долгое лечение. Вам помогают, и что же взамен? — высокомерная мораль сноба и циника о покое. Разделяет ли эту мораль ваша супруга?
Промолчал. Стоял и отрешенно смотрел поверх головы капитана. В синеве сиял золотой крест.
— Я не знаком с ней — и слава богу. Сдается мне, она сулит одни лишь соблазны. Не представляю, каково вам живется вдвоем в этом городе. Вы очерствели, Глеб, забрались в ваш кокон поглубже — из-за нее? Взялись за эту работу — странную, ненормальную — от боязни потерять счастье? Не стесняйтесь, это обычная история современных мужчин. Я встречал их, готовых на многое ради привычной им жизни — жизни с женщиной. Но женщины бросают неудачников, слабых. Они ищут. Ищут и находят. Почти всегда…
— Чего они ищут? — с жадностью спросил я.
— Этого я не знаю. Спросите у своей жены — нашла ли она то, что искала? Может быть, она у вас святая и ей ничего не надо, кто знает? Если она молода и красива — а это, скорее всего, так, — то, боюсь, вскоре вы можете остаться в одиночестве.
— Вы не знаете ее. Не знаете ничего…
— Но я знаю жизнь, — со странной интонацией сказал капитан, наклоняя голову набок. — Темную ее сторону. И что-то подсказывает мне, что вы частый там гость.
Он подбросил снежок и ловко ударил по нему ногой прямо в воздухе. Брызнули серебристые ошметки, влажная ледяная крошка усыпала собой ступени. На бледном овале лица застыла довольная улыбка.
— Спасибо за флешку, — процедил я сквозь зубы. — Я ценю это. Если можно, продиктуйте мне свой номер телефона, чтобы связаться с вами в случае чего. Пожалуйста.
Моравский оживился, шагнул по лестнице вниз, на ходу доставая из внутреннего кармана куртки темно-коричневое портмоне. Извлек из него белый прямоугольник и протянул мне.
— Одной удачной мысли в день иногда бывает более чем достаточно, — с иронией сказал он. — Моя визитка. Будут какие-то соображения, не дай бог проблемы, или просто понадобится совет — не стесняйтесь, звоните.
— Почему меня отпустили?
Капитан деланно округлил глаза.
— Становится интересна жизнь вне вашего кокона?
— Эй, — ощерился я. — Просто ответьте.
Он убрал портмоне вглубь черного синтепона. Постучал пальцами по бедру. Повторил:
— Эй? Знаешь, парень, раньше за такое обращение я вполне мог выбить пару зубов. К счастью, я расту над собой. Такое меня больше не трогает. А ты, я смотрю, умеешь и любишь злиться, склонен внезапно менять настроение. Ты на учете в психдиспансере не числишься? Я ведь серьезно спрашиваю. Есть такие: улыбаются, вежливые, а потом раз — и в боку твоем ножичек, или поджог устроят посреди ночи из чувства необъяснимой обиды. Ты ведь не собираешься сжечь меня, да?
— Играете в доктора? — глухо спросил я. — Но вы уж простите. В последнее время я сам не свой.
Рассовал по карманам и визитку, и красную флешку. Ощутил резь в желудке, словно туда плеснули кислоты вперемешку с битым стеклом. Закачал головой, чиркнул глазами по верхушкам деревьев: острые черные колья пытались воткнуться в чистое небо. Ветви были усеяны вороньими гнездами.
— Так почему я свободен? — выдохнул я, морщась от боли. — Какого черта ван Люст решил, что моя жена шлюха? И, в конце концов, почему вместо девушки я встретил гиноида?
На все эти вопросы я уже знал ответы. Но просто взять и уйти чертов Моравский мне не позволит. Он наблюдал за мной. Как будто здесь и сейчас вел тайную видеозапись из собственных глаз.
— О, это в каком-то роде городская легенда. Но об этом говорить я не буду — по крайней мере, до тех пор, пока вы не согласитесь со мной сотрудничать. Главная причина вашего освобождения без суда и следствия это вы сами, ваше общественное положение. Выяснилось очень быстро, что кроме слов никчемного безработного и маргинального ветерана опасаться им нечего: нет ни записей с камер, ни собственно гиноида. Им — это корпе и отцу убитого парня; ни той, ни другой стороне шумиха совсем ни к чему, а уж между собой такие договорятся всегда. Для отчетности они держали Елагина в качестве виноватого; разборки в трущобах, классика жанра; вы же на роль убийцы годились в последнюю очередь. С вами бы связались чуточку позже, чтоб утрясти пару деталей, но, кажется, уже и этого им не надо.
— А вы как же? Ваши ребята видели предостаточно; дайте-ка угадаю…
— Да, все правильно, — скривился Моравский. — Наш отряд заткнули деньгами. Кого-то перевели, кого-то отправили на почетную пенсию, кого-то, как меня, отстранили.
— Неужели не предложили ничего за молчание?
— Предложили. И я взял — для вида.
Во мне не было сил, чтобы изобразить на лице подходящую для его слов эмоцию. Мне было совсем все равно. Но капитан расценил мое равнодушие на свой лад.
— Сумма невесть какая, к тому же приходится время от времени изображать лояльность; в нашем деле без этого выживать сложно. В общем и целом, шума им удалось избежать. И вот тут-то, видимо, консул Бельгийской Республики вновь перехватил инициативу. Он, похоже, из тех, кто любит урвать от жизни кусок пожирнее. Вы просто жертва безумного случая; конечно, то, что произошло предугадать не смог бы никто. Так бы и жили себе дальше в этом вашем покое, если бы не обладали весьма ценным активом.
— Не было никакого покоя — ни единого сраного дня. Этот консул такой же ублюдок, как и любой другой, считающий женщину потенциальной игрушкой для своей похоти, тем самым активом. Она человек — такой же как вы или я.
— Это с точки зрения нормального общества. Вы же не вчера родились. Уж вам ли не знать, как здесь обстоят дела. Кто-то решил — теперь мы понимаем, кто, — что с вашей семьи можно кое-что поиметь. Типичнейший случай.
— Но дела ведь нет, мы бы узнали об этом в конце концов…
— Но почему-то стали искать деньги? — ввернул капитан.
Кивнул как во сне. Чудовищность прошедших дней колыхнулась по стенкам черепа багрово-черными воспоминаниями. Деревья и церковь, человек рядом, могилы — все смешалось в монохромную рваную жуть.
— Да. Но на что консул рассчитывал? — с трудом шевеля языком, спросил я колючую зимнюю пустоту.
— Это тоже типично. Тут главное психология, аморальная наглость на грани искусства. Как только этот социопат понял бы, что ему не видать вашу жену, боюсь, вам пришлось бы столкнуться с изнанкой его возможностей. Вас бы в самом деле арестовали, вас бы и вправду поместили в камеру. Но только не в государственную. Я знаю как минимум три частных тюрьмы в окрестностях Петербурга; угодить туда в качестве заключенного и врагу не пожелаю. В одно из таких мест, кстати, пытались перевести Елагина. Неудачно.
— Чушь какая-то, — скривился я вдруг, концентрируя взгляд на круглом лице капитана. — Как и то, что ваш отряд в ту ночь вломился буквально с последним выстрелом…
Говорил по какой-то пустой, лишенной силы инерции. Мне было плевать. Но какая-то часть моего существа отчаянно желала знать, что же на самом деле творится.
— Обычный рейд. Крупное несанкционированное мероприятие. В число присутствующих несколько проходящих по разным делам свидетелей и подозреваемых, рецидивистов. Банальный вечер. Такая работа.
— В чужом районе, — не удержался я.
Капитан тихонько усмехнулся.
— Ой, ну вы-то не лезьте в эти дела. Обычная практика.
— И в подвал тот совершенно случайно вломились?
— А что нам его пропускать, если мы здание за зданием проходим? К тому же мы знаем, что у этих ребят где-то есть схрон, общак, и вообще не ваше это дело, Глеб Владимирович…
— Случайность, то есть?
Капитан прищурил левый глаз. Издал свистящий звук сквозь сложенные трубочкой губы. Полез в карман, достал пачку сигарет, прикурил, затянулся.
— Как и ваше приключение, и шантаж консула. Случайность, да. Вот именно, чушь. Хотите увидеть в этом теорию заговора — валяйте, дело ваше. Но обычно в жизни все гораздо проще. Гиноид дал сбой, консул любит пощекотать нервы, у вас нет нормальной работы — вот все и сложилось. Кажется, что это цепочка событий, которым есть объяснение. Но поверьте мне, это всего лишь…
— Зачем консулу кукла?
Из широких ноздрей Моравского повалил сизый дым.
— В том числе это я и хочу выяснить, — пробубнил он. — Я копнул здесь, спросил там, и это не выглядит как обычное дело, как обычное корпоративное дерьмо, это чертова кроличья нора; с вашей помощью…
— Простите, Антон — могу я вас так называть? — но я не имею ни времени, ни желания участвовать в этом дешевом нуаре. Надеюсь, вы прекрасно справитесь без меня.
Я развернулся, морщась от табачного дыма, не собираясь оставаться в компании этого человека более ни секунды. Я знал, что хотел больше всего на свете: отыскать Софию, рассказать ей о том, что все кончилось, что я вновь человек, вольный идти куда угодно и делать все, что пожелаю — вместе с ней. За спиной повисла космическая тишина. Даже ветки не смели трещать, и галки с воронами смолкли. Сделал шаг вперед, и тут же на плечо мое обрушилась рука капитана.
— Подожди-подожди, — протянул он, пытаясь развернуть меня к себе. — Дешевый нуар, говоришь? Тебе в корпе не приплачивают за роль дурачка?
Резко обернулся, отталкивая навязчивый запах кошачьей мочи, упираясь в черную куртку. Мельком увидел, как на небе мигнуло первое за день облако — налитая ртутью слякоть.
— Ага, — прохрипел я. — Я вообще их тайное оружие. Убиваю силой мысли.
Моравский скукожился, и вдруг разразился приступом громкого смеха. Выкуренная до фильтра сигарета замелькала меж пальцами. С недоумением и тоской смотрели на нас портреты.
— А ты с причудами, — сквозь смех произнес капитан. — И жизнь у тебя чудная.
Кивнул ему — мол, наслаждайтесь своими умозаключениями, — и не спеша пошел прочь. Капитан не растерялся, в два шага нагнал; мы вместе молча спускались с холма по каменистой тропе. Кресты мелькали среди черных влажных стволов. Гранит, проржавевшие оградки, запорошенные снегом конусы земли, все это медленно ползло мимо нас. Фотографии, цветы из дешевого пластика, треснувшие лампады… Вдруг сердце ухнуло, глаза защипало как от морской воды: на снегу, в голых кустах сирени алело пятно, и от него кляксами, пестро карабкалась вверх по холму цепочка багровых капель.
Я ускорил шаг; различил антенну на самой верхушке показавшейся, наконец, высотки, и не смог отвести взгляд. Сейчас, в эту секунду, серый тоненький штрих был тем явлением, что держал меня в реальности мира. Через миг антенна пропала из вида.
— Да погоди ты, — подал голос запыхавшийся капитан, плетущийся позади. — Эй, Сегежа!
Ботинок ступил на асфальт пяточка, и я остановился. Почувствовал табачную вонь. Не оборачиваясь, выдохнул:
— Да что вам от меня нужно…
Капитан нагнал меня, обошел, заглянул в лицо. Провел рукой по сбившимся от быстрой ходьбы волосам.
— Стало интересно, чего я к тебе пристал?
— Нет, не стало. Просто вслух мысли…
Слабо улыбнулся, ощущая в уголках рта холодок. Капитан недовольно умолк. Щетина под носом и на щеках чернела, пыжилась каждым коротким волоском в стороны, пытаясь проткнуть собой морозный солнечный день. Тогда я двинулся в сторону шоссе медленными шагами, не в силах стоять на одном месте. Под подошвами хрустнула наледь.
— Безумный ублюдок, — раздалось за спиной.
Пересек обе полосы, встал у полицейского «Форда». Обернулся: Моравский щурился на бывшей парковке. В стылом мареве дрожал кладбищенский холм.
— Чего вы хотите? — прокричал я, складывая ладони рупором у рта. — Предъявить запись корпе? А зачем, там ведь просто парень любит девчонку! Ну подумаешь, пристрелила его!
Ну же, давай. Просто подойди сюда, засыпь меня тупыми вопросами и убирайся к чертям!
— Что тут особенного? Я-то вам для чего?
Он клюнул. Вскинул подбородок и черным болидом вспорол собою пространство. В считанные секунды оказался рядом. Показалось, что он пытается ухватиться за ворот моего пальто.
— Не просто девчонку! — негромко, но с особенной злостью прорычал капитан мне в лицо. Я прикусил кончик языка; теплая плоть вздыбилась внутри рта, ткнулась беспомощно в напряженную щеку.
— Ты ничего не знаешь! — продолжал рычать полицейский, вращая глазами. — И понятия не имеешь!
— А может, — выдавил я сквозь пульсацию во рту, — это ты ничего не имеешь?
Он все-таки схватил меня за ворот и грубо поволок к машине. Мои ноги едва касались заснеженного шоссе.
— Послушай внимательно! Это не игра, дурачина несчастная. Речь идет о войне на самом высоком уровне, и если тебе хоть что-то известно, то в твоих интересах сейчас же мне все рассказать! Что ты знаешь?! Ты ведь что-то знаешь, ты был там, общался с этим уродом, он ведь что-то тебе говорил; с какой стати он устроил перед тобой этот порноспектакль?!
— Завидуешь? Давненько же ты не тра… — успел ввернуть я, прежде чем Моравский не положил на мое лицо свою огромную, воняющую табаком ладонь, зажимая рот.
— Ты бы думал, прежде чем открывать свою пасть…
Захихикал, противно и тоненько. Горячий воздух влажными капельками опутал ладонь Моравского.
— Смешно тебе, сукин сын? — прошипел он, крепче вдавливая ладонь в мои губы. Я просунул язык между пальцами, заставляя капитана одернуть руку. С отвращением отерев о куртку ладонь, он разжал хватку, позволяя мне вновь ощутить земную твердь.
— Ты меня лизнул, — осоловело констатировал капитан.
— Послушай, Антошенька, — ощерился я. — Послушай-ка…
Ноги подкосились. Моравский поймал меня, ухватив за плечи, облокотил о капот «Форда». С подобием жалости окинул взглядом мою фигуру.
— Ну, я слушаю, Глебушка!..
Оскал не сходил с лица. Клыки выпирали из-под верхней губы, скрипели о резцы. Сквозь джинсы кожу ног обжигал холодный металл корпуса автомобиля. Я походил то ли на юродивого, то ли на нестрашного монстра.
— А ведь это я их убил.
— Чегооо? — протянул Моравский, презрительно щурясь. — Кого ты мог убить, дурень?
— Давида и Анну. На записи же все отлично видно. Ты ее вообще смотрел?
Капитан опешил на миг, затем сокрушенно закачал головой.
— Все под дурочка косишь? Глумишься? Что тебе известно?
— А тебе? — в тон ему вопросом на вопрос ответил я. — Тебя же отстранили. Ты ведь больше не гребаный мент.
Выражение его лица не сулило ничего хорошего. В серых глазах играли черти — им хотелось причинять боль, задавать вопросы и слышать только правильные ответы.
— Надоел ты мне, — тоскливо заявил он. Полез в который раз за пачкой сигарет, быстро прикурил. Затянулся, играя желваками на лице. Вдруг резко, почти незаметно ударил меня под дых: кулак вторгся под ткань пальто, под свитер, встретился с мышцами живота, передал моему телу некоторое количество боли и килоджоулей.
— Агрх! — выдохнул я, распахнув в спазме рот. — Дяденька, а сигареткой… жечь будете?..
Капитан затянулся еще раз. Огонек дернулся туда-сюда. Перемолотый почти в труху табак исчезал в горячем тлении, невыносимо смердел.
— Сам виноват. Все Ваньку валяешь. Ни грамма в тебе уважения. Что ты знаешь? Давай, выкладывай, Глеб, не стесняйся.
Пепел упал на снег. Я молчал.
— А я ведь помочь хотел. Объяснить по-людски, что сегодня они про тебя забывают, а назавтра ты раб и должник их до гроба. И что с тобой делать? А ведь о покое грезил, извинился даже как человек перед человеком…
Где-то на теле дома блеснуло стекло — промелькнул солнечный отсвет, будто открыли или закрыли раму. Я жадно запрокинул голову, пытаясь понять, какой этаж выбрало для своей игры зимнее солнце.
— Домой охота, понимаю, — произнес Моравский, перехватывая мой взгляд. — Мне до тебя дела нет, и до твоих дел, и до жены, и до всего, что твое. Мне только мое и надо. Информацию. Любую. Такую, чтобы…
Я зажмурился. Распахнул веки.
— У них там, — тихо заговорил я, выпрямляясь, не сводя глаз с окон кирпичной башни, — пиво просто отвал башки…
— Все шутишь, сученок?! — рявкнул в лицо полицейский и тряхнул меня с силой, озлобленно; дома ушли в тень, рассеялись, реальность явила мне бледное лицо с сигаретой во рту.
— Тебе известно, чьей копией является эта кукла? Давид что-нибудь говорил? Ну же, Сегежа, давай, что, совсем никаких идей?
— Ничего он не говорил…
Я мог отвечать что угодно. Видео на чертовой флешке начиналось с танца гиноида, все остальное — наш разговор, мое появление там — если и существовало, то только на треснувшем жестком диске, что прямо сейчас был упрятан под самым моим бешеным сердцем в кармане пальто.
— Прямо уж и ничего? — Из его рта вырвалось сизое вонючее облачко. Окурок полетел в сугроб. — Стоял там столбом и пивко попивал? Давай, не томи.
Моравский облизнул огромным, похожим на желтого слизня, языком шелушащиеся от мороза губы, и снова меня тряхнул — на этот раз сильнее прежнего.
— Ну!
— Он спросил, для чего я пришел к ним в трущобы. Вот и все.
Он заморгал.
— Вот и все?
— Да.
— Что бы ты ни скрывал, ты зря это делаешь, — устало сказал капитан. — Рано или поздно все-все всплывет, все станет явным — вот как твой случай.
— Какой еще случай?..
— Господи… Да я про консула говорю, про шантаж! Ты сможешь все это повторить? Другим людям и под присягой?
В сердце моем нажали на неведомый анатомии клапан — кровь побежала по телу быстрее и легче. Тело вжалось в автомобиль, ладони ощутили плавный изгиб капота.
— Нет уж…
— Опять твой чертов покой? — остервенело просипел капитан. — А знаешь что, Глеб Сегежа? Да пошел ты!
Вновь схватив за ворот, оторвав от машины, он с легкостью отбросил меня в сторону. Покрытый ледяной корочкой хрустящий снег принял тело, смягчая удар о морозную землю. Мир нехотя завертелся. В медленном калейдоскопе синего и белого мелькнуло черное, раздался звук захлопываемой двери, загудел двигатель.
— Эй! — крикнул я в сторону полицейского «Форда». — Спасибо за флешку!
Моравский ощерился, вскинул кулак с оттопыренным средним пальцем, дал по газам. С истошным визгом покрышек машина рванула с места, закладывая крутой вираж, развернулась вокруг собственной оси и, выпуская из-под себя поток ледяной крошки, устремилась на юг по встречной полосе. В морозной дымке пылал красный шлейф габаритов.
5
Поднялся с земли. Убедился, что вокруг никого. Посмотрел на собственный дом: двадцатый этаж, восемнадцатый. Блестящие окна — в них замерло солнце. Прикрыв веки, вдохнул поглубже. Плюнул под ноги и отвернулся.
Куст сирени. Под ним — черный лед. Я пробрался к надгробию. Снег здесь обильно увлажнили кровью, теперь же кровь превратилась в багровую корочку, что покрыла невысокий белесый холмик, и от холмика вела цепочка глубоких следов. То и дело у рифленых углублений в снегу виднелись темные кляксы. Следы обрывались у зеленого контейнера для строительного мусора — металлический куб стоял на широкой тропе; тропа шла вверх и сужалась, сжимаемая крестами, решетками и заснеженными столиками со скамьями. Вернувшись на каменные ступени тем же путем, я прошел вверх, вновь оказался на площадке перед церковным крыльцом. Впереди качался и шумел темный холм. Поднялся до контейнера, сквозь щели убедился, что он пуст; только днище было покрыто слоем снега и влажными обломками веток. Вдруг прямо под собой увидел несколько багровых капель — точно драгоценные камни, рубины или опалы, выроненные кем-то случайно. Наклонился и сгреб в ладонь морозную массу. В бело-серебряном месиве тускло блестели на солнце кристаллики алого. Поднес к лицу, понюхал: кровь. Сладкий металлический аромат смешался с выстуженным запахом озона и грязи. Слепил снежок, пряча в сердцевину алые камушки, бросил его через край контейнера. Не спеша двинулся вдоль оград. Заприметил другую цепочку: лисьи следы, принадлежавшие, очевидно, Маттео Малиньи, туристу из солнечной Калабрии. Должно быть, он тоже увидел кровь у сирени или кляксы на тропе, и, сгорая от любопытства, проследил их путь. Так же, как и я сейчас. Только чувства были совершенно иные: меня вела циничная, злая, как любовь подростка, тоска.
Тропа забирала все выше, и в какой-то момент разделилась: левый рукав, перевалив через край отрога, уводил вниз, к озеру, правый карабкался по краю холма, вел к высоченным соснам, к старинной часовне — ее силуэт на миг показался из густо поросшей кустарником черноты. Прислушался: ветер гулял в голых кронах деревьев, изредка трещала невидимая сорока. Молчали галки с воронами. Я сделал шаг: снег с жадностью заскрипел под ботинком. Мелькнула бурая кирпичная кладка. Ажурный крест замер над небольшим куполом; купол этот казался вздутой выдубленной шкурой древнего ящера. Две стройных березы раскинули ветви-объятия над часовней, устремляясь в синее небо прямиком из чьей-то могилы. Я оказался на самой вершине холма. На теле строения, между двумя розовыми колоннами, зияла тьма распахнутой металлической двери. Арка, украшенная витиеватой надписью, держала на себе бетонное перекрестье, и над ним будто бы притаился святой лик.
Обернулся. С прищуром вгляделся сквозь море деревьев. Отсюда виден наш дом. Видны наши окна. Если спуститься обратно с холма по тропе, минуя белую церковь, перейти шоссе и оказаться у двери парадной — какое это будет расстояние? Не больше четырехсот метров, наверное. Как же близко от мертвых мы жили все это время…
Прыснула стайка лазоревок. На снегу с новой силой запульсировали рубиновые ледышки: кляксы вели прямиком в темноту. Перекатывая на языке теплый комочек горьковатой слюны, я приблизился к распахнутой настежь часовне: снег здесь чернел. Белое рыхлое пространство было усеяно мириадами темных капель. Стараясь не слушать бешено колотящееся в висках сердце, полез в карман, извлекая проклятый фонарь; вот и опять подарок Жана-Батиста выручает меня в самый мрачный момент. Вдавил резину в металл. Расфокусировав взгляд так, чтобы реальность потеряла контрастность и четкость, направил столб света вглубь темноты: в бетонном полу зияла дыра. Недавно здесь что-то или кого-то тащили волоком: одним широким штрихом от входа к дыре тянулась черная полоса. Луч дернулся, макнулся в стылую глубину, обнаружил тело в военном бушлате: оно замерло грудой коричневых складок на обнаженной сырой земле, раскинув руки и ноги. Оно лежало — вернее, валялось — на груди, лицом вниз. Земля перемешалась с кровью; поверхность чернела, густо пахла металлом и сгнившей листвой, корнями деревьев, влажным холодом. На затылке искрился иней от яркого света.
Затошнило. Почувствовал, как нижнюю челюсть ведет куда-то вбок, как зубы стали вдруг пританцовывать. Судорожно вздохнув, еще раз кинул в черную глубину луч света.
«…родственница Пушкина и какой-то профессор…»
…Конечно, соврал. Стал бы он копаться в студеной земле средь бела дня. Бросил его здесь; но где же одежда, простыни? Сам по себе мертвец ничем не грозит, не указывает ни на что, но одно только слово Елагина, и нам конец; и что же мне сейчас делать? Ведь ни за что не достать это грузную тушу из ямы; может быть, сжечь ее, устроив погребальный костер, такой, чтобы любой мог увидеть жирный дым над холмом; господи, что же мне сейчас надлежит…
Сорока протрещала вверху. Сделал шаг назад, наружу, встретился взглядом: такие добрые очи; они все простят…
Холодный циничный разум не выдержал. Он и не являлся таковым, он просто пытался работать иначе, защищаясь, бравируя жесткостью мысли, разогревая вялое тело устремленностью к действию. И действие состоялось: я вжал резиновую кнопку большим пальцем и медленно пошел прочь. Оставил за спиной кирпичное строение, миновал могилу с березами, ступил на тропу к озеру. Горизонт заходил ходуном, холм съехал вниз. Шагов не было, я катился по ледяному настилу. Впереди мелькнули морщины сосновых корней. Снег щетинился хвоей, пепельной чешуей от коры. Выставил ноги так, чтобы упереться подошвой в поверхность, затормозить. В самом низу тропы, в тени черных вязов и огромной малахитовой ели, на гранитном пьедестале возникла фигура крылатого ангела: молодая изящная женщина склонила голову, смиренно сложила ладони в беззвучной молитве. Голова была покрыта густым слоем снега, и с крыльев то и дело опадали белые хлопья; казалось, что это перья летят. Солнце слепило из-за спины ангела, рассеянными лучами озаряя холм сквозь еловые лапы.
Выпуская облако изо рта, выставив руки для равновесия, я приблизился к постаменту. Справа, в ветвях черноплодной рябины, белел поворот. На гранитной плите надпись: «Дочерям и жене. Мы встретимся скоро в…». Дальше залеплено снегом. Тревожить золотистые буквы не было смысла — я знал, где они встретятся.
Снег упал с крыльев на мои плечи. Стряхнул хлопья, дернулся, не глядя под ноги, продрался сквозь колючую преграду, покатился с холма. Внизу тонкой черной полоской врезалось в кладбище замерзшее озеро.
Щеки горели. Пальцы под синей тканью перчаток кололо немеющей болью. Нужно вернуться домой, согреться, и, обнявшись под пледом, окунуться в иные миры, уснуть…
Поскользнулся. Закружились деревья, мелькнуло синее небо. Припал на колено, погружая ладони в сугроб. Тут же со всех сторон принялись сверлить взглядом обитатели фотографий.
…Ну уж нет, я не ваш, мне нечего с вами делить!
Встал. Скривился: обнявшись под пледом? Обнявшись, мать вашу, под пледом?!
Пнул черный забор, сильно и зло. Металлический гул пронесся по телу холма, поднимая с деревьев затаившихся птиц. Небо над головой заполнилось гвалтом.
— Орите сколько влезет, ублюдки, — прошипел хрипло, совсем как ворона. — Здесь вам самое место.
Выйдя из щербатой дыры в высоком плоском заборе, я побрел обратно к шоссе. За спиной жалобно-угрожающе подал сигнал локомотив. По правую руку сменяли друг друга убогие остовы ограждений, ворот и калиток. От широкой асфальтовой дороги разбегались тонкие улочки. Тут и там прятались по сугробам сгнившие домики; попадались и настоящие замки, заколоченные, обнесенные колючей проволокой. С конца мая все утопало здесь в зелени, и воздух пьянил ароматом цветущих яблонь и груш, сирени, приправленный сладким запахом тления. Сейчас же все было похоронено под одним огромным сугробом. Я не знал, жил ли хоть кто-нибудь в этих домах. Не видел ни разу по вечерам огня, ни живого, ни электрического. Жизнь начиналась южнее, ближе к первому озеру, и дальше, у Поклонной горы, кипя многолюдно — совсем как до Войны — на Удельной. Но только странная то была жизнь: вялая, старая, поголовно мужская…
Впереди замаячили высотки: желто-серые панели ползли к бледному небу. Солнце зависло сзади, било космическим холодом в спину. Слепящие лучи отражались в широких витринах первых этажей. Сфера атриума, массивная, занесенная снегом, напоминала шапку персонажа какой-то особенно глупой сказки. Здешняя архитектура отличалась претензией на античность, рококо и сталинский классицизм, на деле являясь очередным китчем конца двухтысячных. За бывшим торговым центром безобразной свалкой чернели останки домов: разлученные близнецы, шесть типовых башен; три уцелевших; жилой была только одна.
Как учили в детстве, посмотрел налево, потом направо. Конечно же, пусто. Пересек шоссе по диагонали, целя в старую трамвайную остановку. Под серым стеклом угадывались обрывки рекламного постера: можно было различить длинные женские пальцы с ярко-зелеными ногтями; все остальное извлечено, с жадностью выпотрошено. На влажной фанере, заляпанной комьями бумаги, чернела косая надпись маркером: «Любовь зла». Трамвайные рельсы; маршрут давно не обслуживается. Зачерпнул носком ботинка снег, ударился о булыжник. Остановка; от нее дорожка к самой парадной. Пискнул сигнал, магнит отлепился от другого магнита. Пахнуло забродившим сырым теплом.
Сто тридцать девять — число над дверью. Чуть потянул на себя ручку. Заперто, утеплитель плотно прижат к металлическому косяку, не давая и шанса, ни единого миллиметра пустоте. Вставил ключ в изрезанный щелью замок. Проник внутрь как вор. Тут же увидел пугало цвета хаки. Ожидал услышать какое-нибудь приветствие, но нет: гиноид хранила молчание. Тогда я запер входную дверь и извлек из карманов все, что в них было: жесткий диск, красную и синюю флешки. Что еще? Связка ключей, какой-то скомканный чек, ворсинки, визитка капитана Моравского. Принялся тереть поверхность девайсов перчатками, стараясь не пропустить ни единого пятнышка, ни единого отпечатка. Убедившись, что они блестяще чисты, я вошел в ванную комнату. Нагнулся, нащупал ткань кашемира, по очереди рассовал в карманы чужого пальто фонарь, флешки и диск. Встал, на самой границе зрения ловя свое отражение в зеркале. Смотреть на себя не хотелось. Вышел в прихожую. В квартире по-прежнему царил холод. Плед колыхался в разбитом окне балконной двери, натягиваясь и опадая как парус.
Только сейчас я заметил, что веки «Сиберфамма» все еще сомкнуты. Интересно, сколько в ней осталось энергии? Когда она вырубится? И уместно ли так рассуждать?
Нахмурился. Сейчас это не имеет значения. Прекрасно понимая, что ей известно о моем присутствии, но, тем не менее, стараясь не издавать шума, я вышел на лестничную площадку и запер квартиру номер сто тридцать девять.
Первым делом сделал то, что должен был сделать уже давно: убедился, что десяти банкнот по сто евро нигде нет. Тщательно и методично обыскал спальню, кухню, несколько закутков в ванной комнате, антресоль под потолком коридора. Нашел между старыми тетрадями деньги — жалкие остатки наших сбережений. Достаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги за пару месяцев и приобрести скромное количества еды скромного же рациона недели на полторы. Вот мой паспорт, свидетельство о рождении, «аттестат зрелости», какие-то грамоты и дипломы за участие, но не победы в школьных конкурсах. Тот же ненужный мусор, принадлежащий Софии.
Стоп. Где ее паспорт?
Как в лихорадке прошел на кухню и выпил из-под крана два стакана холодной воды. Рухнул на табурет.
— Куда ты пошла?..
Произнес это вслух, негромко. Давно забытая привычка говорить с самим собой вдруг снова дала о себе знать.
— Куда и зачем? Мы же обо всем договорились. Шаг за шагом. Ты ведь ничего не узнала. Не знаешь совсем ничего!..
Стиснул зубы. Сознание заливало опустошающим разочарованием. Я не мог понять ту, кого почитал за открытую настольную книгу. Кто-то будто выдрал страницы в самом сокровенном месте сюжета.
— Боишься меня?..
Выставил, растопырив, пальцы. Бледная пустота — полосочка кожи — резала взгляд. Блеск золота не потускнел, не истерся: его попросту не было. Как и той, кому этот блеск посвящался.
— Считаешь теперь нас другими…
Дрожь в уголках губ. Бессвязный шепот метался по кухне.
— Сбежала — куда и зачем, ну для чего быть одной? Уйти, ничего не зная, как будто предав — это ли ты? Страх? Попытка помочь? А может быть, это я ничего не знаю? Может быть, происходит что-то совершенно невероятное, прямо сейчас, где-то без меня, но про нас, а я сижу тут; но она…
…Говорила про новую жизнь, про невинность.
…Прирезала ублюдка в бушлате.
…Отдалась мне на глазах у гиноида.
Исчезла.
Я поднялся. Ухватил за края табурет, вынес из кухни. Поставил прямо под телефоном в коридоре. Сходил в комнату за шариковой ручкой и листком бумаги, выдранным из тетради, вернулся в коридор, потер с силой виски, с удивлением обнаружил висящую на вытянутом черном проводе вдоль стены трубку. Сел, сбросил сигнал и набрал по памяти номер городской справочной службы. Щелкнуло, бесполый автомат лаконично поприветствовал меня, тут же перейдя к сути своих услуг.
— …нажмите «Один» и четко произнесите название запрашиваемого абонента. Внимание: мы не гарантируем наличия в нашей базе данных…
Ткнул пальцем в единицу, произнес громко:
— Фармакологическая корпорация «Возрождение».
Захрипело, автомат по-человечески вздохнул.
— По вашему запросу найдено: один номер. Нажмите «Два», чтобы прослушать номер абонента. Нажмите «Три», чтобы…
Попал пальцем в двойку, под диктовку бездушного голоса лист бумаги заполнился линейкой цифр. Положил трубку и тут же снял ее снова. Вбил только что полученный номер.
— Вас приветствует «Возрождение»! Добро пожаловать в мир здоровых технологий! Пожалуйста, воспользуйтесь нашим гидом или дождитесь ответа оператора!
И здесь был тупой болван. Синтезированный мальчишеский голос, полный энтузиазма и задора, перечислил мне список услуг (лаборатории, запись к врачам узких профилей, экспериментальная медицина, отдел бухгалтерии, финансовые вопросы, кредит…). Я молчал, ожидая, когда поток этого совершенно бесполезного для меня бреда иссякнет. Но проклятый мальчишка перевел искусственный дух и с новым приступом воодушевления принялся повторять только что сказанное:
— …прием ведет доктор Артурия. Пожалуйста, нажмите «Семь» для ознакомления с правилами осуществления клиентского договора в рамках оказываемых услуг…
Различил прямоугольник входной двери, уставился на утопленные в стене петли. Кивнул сам себе, сжимая зубы. Возможно, к этому доктору была бы записана София; с помощью тех двух тысяч мы собирались… мы собирались…
В груди остановилось вдруг что-то на миг. Сердце превращалось в ком ненужного мусора; ком вновь застучал.
— Здравствуйте! Мое имя Валерия, я оператор номер ноль-семь-ноль-два-восемнадцать. Вы позвонили в отделение общего медицинского профиля корпорации «Возрождение». Чем могу вам помочь? Для улучшения качества обслуживания наша беседа будет записана.
Громкий голос живого человека, женщины, ударил в барабанную перепонку, и не сразу мне удалось разлепить губы, выплюнуть в пространство коридора неосязаемую гниль из недр тела.
— Слушаю вас, говорите, пожалуйста!..
Тембр был приятным, располагающим. Я произнес сиплое:
— Эээ…
— Да-да, здравствуйте!
Петли пропали, растворились в холодной стене. Стараясь дышать как можно естественнее, я задал вопрос:
— Могу я поговорить с Давидом Филиным?
Повисла тишина. Там, на той стороне, было слышно глухое бормотание, прерывистый и ритмичный стук, какое-то будто чавканье, низкий гул и скрежет как от царапающих поверхность стола скрепок. Казалось, мне дали подслушать отрывок из жизни насекомых.
— Простите… — удивленно и холодно сказала Валерия, — я правильно понимаю — вы просите связать вас с Председателем Правления нашей Компании?
— Совершенно верно…
Сейчас она пошлет меня. Еще секунду, и трубку повесят.
— Для звонков подобного уровня существуют другие департаменты. Если вам не известны их контакты, то, боюсь, ничем не могу вам помочь. До…
— Постойте! — воскликнул я. — Передайте ему, что с ним хочет поговорить Глеб Сегежа. Речь идет о его дочери Анне…
— Прошу меня извинить… — совсем уж холодно сказала трубка. — Я вынуждена немедленно прервать этот разговор. Я буду обязана сообщить о вас нашей службе внутренней безопасности. Хорошего дня, всего доброго.
Голос исчез. Слова оператора номер ноль-семь-ноль-два-восемнадцать вкручивались шурупами в стенки черепа, крепко впиваясь в мозг. Уставившись в стену, осторожно повесил трубку на рычажки, морщась от внезапно появившейся легкой, но назойливой боли в висках. Обхватил колени руками, сгрудился на табуретке. С тоской усмехнулся: на что я рассчитывал? Легче было бы дозвониться Дьяволу. Пальцы вдруг затряслись мелко. Почувствовал, как на лицо натягивают маску — тугую, душную, безобразную. Ощутил на искаженном лице улыбку, набрал номер, с жадностью вслушиваясь в гудки.
— Spreken! — нетерпеливый лай треснул на той стороне. Я провел языком по зубам: привкус блевотины. Сморщился, выдохнул:
— Привет, Тибо, старичок. А это я. Где же твои лакеи, неужто такой важный хлыщ сам отвечает на каждый звонок?
В носу противно защипало — то ли от смеха, то ли от желания заорать.
— Wat?! Сегежа? Verdomde klootzak! Что тебе нужно?!
Тихонечко захихикал прямо в трубку от предвкушения.
— Хочу сообщить тебе, что твоя милая шалость раскрыта. Здорово же ты нас провел, весельчак.
Тибо ван Люст, кажется, лишился дара речи, издал булькающий звук.
— Я подумывал обратиться в полицию, но к чему лишний шум? Не лучше ли рассказать наш анекдот желтым газеткам, думаю, выйдет презабавная…
— Агрх! — выплюнула трубка. — Ты пьян?! Вы собрали нужную сумму? Или твоя жена решила, что пора отдавать долг по нашему с ней уговору?
Я засмеялся, раздирая глотку хрипом отчаяния. Уперся раскрытой ладонью о стену, наваливаясь телом на несчастную табуретку, с трудом различая под ногами трясущийся пол.
— Ну ладно тебе, пошутил и будет, — захрипел я сквозь резь в горле. — Все уже знают, что ты не вносил за меня залог, что ты просто старая похотливая тварь, и скоро слетишь к чертовой матери с кресла консула, mon cheri!
— Ты под кайфом?! — прошипел бельгиец остервенело.
— Ты будешь под кайфом, когда они там узнают, чью дочь потрахивал младшенький Филин, — гаденько сказал я, улыбаясь, не понимая, что говорю, не следя за словами и мыслями. — Готовься, старик, сыночку привет!
На той стороне закричали, залаяли бешеным псом, но я уже не слушал. Повесив трубку, опустошенно замер у стены, чувствуя, как по лицу стекает холодный пот. Вытянул перед собой руки — те тряслись, превращенные в пару онемевших чужеродных отростков. Прошептал чуть слышно позабытое тут же проклятие; не голос, а свист вырвался изо рта. Легкие точно бы прокололи, они были не способны более удерживать воздух, формировать голос, питать кислородом мозг. Коридор затягивало в грязно-серую пульсацию; я был в самом центре тошнотворного движения. С трудом отлепившись от почерневшей стены, сделал шаг в сторону. Угол, порог пустой темной спальни. Несколько рваных шагов. Рухнул на кровать. Уткнулся лицом в ее подушку. И не почувствовал ни единого запаха.
— …ну вы, ребята, подумайте. Это хорошие деньги. Какая вам разница — любить себя в одиночестве под одеялком или на потеху публике на той стороне объектива? Господи, девочка, ты себя видела? Ты будешь звездой! И заметь, партнер — твой собственный муж. Два часа удовольствия, а доход как у шейха! Договор, социальные выплаты — мы не шарага, у нас все-все-все официально, мы уважаем вас и себя. Пик зрителей приходится на ночь, это понятно, иногда возможны переработки, но вы же молоды и здоровы и, надеюсь, азартны. Обычный набор: прелюдии, ласки, девочка ему, мальчик ей, классика так и сяк, а если вы люди с фантазией и особенным шармом, то сейчас особенно востребована старая добрая содомия крупным планом. Ну что вы так на меня смотрите, это не моя прихоть, это спрос рынка, спрос похоти масс, если угодно. Наши конкуренты набирают второсортный хлам из числа десятых и даже девятых моделей, гримируют как могут и выдают это за оргии. У них, якобы, пять женщин в кадре, и у каждой по два кавалера. Ну смешно ведь! Нет, у нас — у нас! — все честно. Только настоящие девушки. Реальная плоть! Реальная страсть! И это даже лучше всего, если вы семейная пара. Зритель чует как зверь вашу связь, он там у монитора с ума сходит от зависти и желания. А что это значит для нас? Правильно — постоянные просмотры и доход, доход, ребята, за обычные ваши шалости, за молодость и красоту! Боже, девочка, ты будешь звездой, ты б себя видела!..
Очнулся, закашливаясь сухой пылью. Повернул голову — шея болезненно напряглась. Черные шторы на окне не давали понять, какая часть суток застала мое пробуждение. В уголках губ застыла тоненькая струйка слюны. Отер рот тыльной стороной ладони, моргнул несколько раз.
…Что мне привиделось только что?
Перевернулся с живота на спину и приподнялся на локтях. Из кухни через аппендикс коридора лились ранние сумерки. Солнечный свет потускнел, бледной тенью заливая квартиру. По стенам ползли золотистые блики надвигающегося заката.
…Господи, вспомнил! Около двух лет назад мы с Софией попали в «агентство талантов», где-то на Петроградке. Как же нас угораздило прийти туда? Кто-то сказал нам, что в агентстве проходят съемки социальной рекламы: счастливые муж и жена на камеру должны призывать сограждан вернуться к традиционным ценностям. В каком-то смысле так оно все и было. Помню, как идя за одутловатым сальным мужиком по узкому коридору, мы слышали тут и там характерные стоны и возгласы. Огромная десятикомнатная квартира была заполнена совокупляющимися людьми. И в сопровождении этой порнокакафонии мы вели светскую беседу. Как тот толстяк смотрел на Софию! Его глаза превратились в половые члены: он тыкал ими в нее не целясь, пытаясь проникнуть в саму ее сущность, пытаясь кончить ей в душу, с улыбкой насилуя, смеясь, пожирая взглядом. Мы выслушали его как зачарованные, погруженные в эти стоны, всхлипы, крики, шлепки и животный хрип. Что-то ответили — это не был отказ. Мы обещали подумать.
Выпрямился. Смял одеяло, крепко сжимая холодную ткань. Почему мне приснилось это сейчас? И что было потом?
…Да, да, мы посмеялись тогда на улице, обнявшись, побежали в ближайшее кафе, уплетали там что-то приторно-сладкое, корчили рожи, изображая похоть, стонали и фыркали глупыми голосами; нас попросили заткнуться. И мы вернулись домой, и набросились друг на друга, и София была в тот вечер какой-то особенно дикой, распущенной, грязной. На утро мы долго молчали, и ночью все повторилось, и мы наслаждались друг другом, не желая делиться ни с кем, в одиночестве убогой квартирки.
…Зритель чует как зверь вашу связь, он там у монитора с ума сходит от зависти и желания…
Встал с кровати, распахнул шторы. В лицо ударило солнце. Огромная оранжевая звезда ждала меня, с невыразимой жадностью и жестокостью набросилась на опухшее лицо. Я застыл, упершись лбом о стекло. Распахнул веки, не сопротивляясь, впитывая в оглушенный череп космическую боль. Хотелось выжечь из памяти эти воспоминания. Две секунды, четыре; глазные яблоки запросили пощады. Сомкнул веки, не видя изменений в охрово-красном месиве вспышек, на ощупь распахнул окно, пуская в спальню морозный воздух. Сияние медленно сходило на нет, уступая место белесым тонким нитям посреди чернильного моря. Повисла глухая тишина, точно закат выел собой все звуки. Я скорчился, отворачиваясь от заходящей звезды, почувствовал вдруг застоявшийся тяжелый запах гнили от штор. Выдохнул, вдохнул снова: обычная пыль, скопившаяся на черной ткани. Открыл глаза и пошел прочь от окна, прочь из спальни. Желтые блики лениво стекали по стенам. Тень мелькнула на миг по полу, утроилась, провернувшись вокруг собственной оси, и исчезла на пороге ванной комнаты.
Надписи не было. Только неясные линии стершихся букв, или и не букв вовсе; может быть, это я сам неловко провел пальцами по стеклу, оставляя разводы на зеркале? Приложил ладонь: поверхность запотела от тепла плоти. Захотел посмотреть на себя, и не смог. Отвел взгляд. Что-то колыхнулось передо мной, повторяя движение. Закрутил кран, вытер руки и бездумно ткнул кнопку, спрятанную в нише стены: негромко вступил искаженный сатурацией хор, пронзенный лаконичными нотами баса. Скрипки; и чей-то будто бы шепот. Невидимый легион голосов диктует прямиком в душу твое личное проклятие. Запела женщина: по-французски. Различил кашу из знакомых слов-образов:
«Agnus Dei
Qui tollis
Peccata mundi
Miserére nobis
Miserére nobis
Je m’éloigne de tout
Je suis loin de vous…»
«Agnus Dei»… Обволакивающая мрачной тревогой песня. «От изувечения до похищения, Агнец Божий, я теряю голову от того, что вижу тебя во плоти»… Героиня песни утверждала, что она безбожница и что она лезет из кожи вон, удаляясь от всего, изувеченная, отлученная от церкви. Вспомнил вдруг, как мы с Софией впервые услышали эту песню, как неумело перевели эти строки. Музыка, голос, стихи заперли каждого в личный шкаф со скелетами; мы застыли на месте, глядя друг другу в глаза, боясь шелохнуться…
Как давно я не слышал этого.
Включил режим повтора. Я знал, что обрекаю себя на уныние и пространную скорбь, но именно это и было моей сутью здесь и сейчас; я хотел вытащить из себя эти чувства, материализовав их, превратив да хотя бы в давно позабытую песню. Плачущий шепот крался, гладил, ласкал изощренной нежностью палача. Сделал громче и вышел из ванны. Качая в такт головой, окунулся в залитую золотистым свечением кухню, открыл холодильник: внутри пусто. Тогда распахнул настенный шкаф, обнаружил открытую пачку «перьев» и недопитую бутылку вина. Поморщился, извлекая с полки и то, и другое. Набрал в кастрюлю холодной воды, водрузил на плиту, разжигая голубой цветок газа. Плеснул в стакан красную жидкость и опрокинул в себя, опять сморщился. Налил еще. Хор голосов вспарывал коридор и, подхваченный холодным потоком воздуха из спальни, разносился по всей квартире.
— Агнус Деи… — пропел я фальшиво и хрипло, облизывая губы. — Агнус, мать твою, Деи…
Схватил коробку и всыпал в чуть теплую воду пасту. Желтые полые трубочки медленно погрузились на дно, выпуская из себя пузырьки; до меня дошло вдруг, что это последняя пища в доме, что надо бы выйти на улицу, добраться до рынка; выкинуть из головы чертовщину; признаться себе…
…София ушла.
Сощурился, с ненавистью взял наполовину пустой — или полный — стакан, занес над раковиной, чуть наклонил: к краю устремилась красная влага. В последний момент одернул руку; сделал глоток, не в силах сопротивляться.
Знаю: ты там. Чувствуешь меня сквозь лист стылого металла. Чертова тварь, и не думай, и не надейся, я не войду к тебе, я не войду в тебя, ничего у тебя не получится. Спи, мерзни себе в бетонной коробке одна, шлюха, и пусть это ее лицо и тело, мне ни капельки не жаль тебя. Жди, пока я не решу, что с тобой делать, а до того момента наслаждайся своим одиночеством…
К вечеру поднялся западный ветер. Колючими режущими порывами он лез за ворот, царапал лицо. Сумерки захлебывались в темноте. Над головой мерцал Марс, угрюмо разметав вокруг себя другие планеты и звезды; на небе ни облака. Я погрузил ботинок в снег и создал здесь, должно быть, первый за долгое время человеческий звук. Зрение привыкло к черной реальности, превращая ее в дрожащую темно-серую муть. Стены домов, столбы фонарей, деревья, кусты, остановки — все стремительно приближалось, вдруг замедляя движение, и вновь ускоряясь во все стороны. Свернул вправо. Вдалеке мягко сиял желтый электрический свет: рынок на пересечении двух главных улиц округи был пока что открыт; но зима вносила свои коррективы: совсем скоро эта часть города превратится в безлюдную снежную пустошь.
Огоньки танцевали, меняли положение, прыгали над крышами лавок, моргали, щурились, гасли и снова вспыхивали. Дрожала мерзлая дымка. Кто-то отчаянно и громко закашлял, скрытый за брезентовым шматом, заменявший крышу и стены убогому подобию шатра. Из черного зева входа показалось человеческое лицо: землянистого цвета, иссохшее, словно давно уснувшее. Настороженно озираясь, оно нахмурилось всеми морщинами, которыми обладало, потянулось вперед, вытягивая за собой остальное: укутанную в серую тряпку шею, впалые плечи под залатанной ветхой паркой, худые руки и ноги, торчащие кольями из сгорбленного тела. Из-под черной круглой шапки торчали светлые кудри, смешиваясь с грязным и редким уже мехом воротника. Свет огоньков над нами будто хихикнул, с задором бросаясь на это скорбное лицо, без стыда и прикрас являя мне удивительный факт: лицо было женским. Острая горбинка носа, сжатые полные губы, густые ресницы кричали о минувшей красоте, глубокие морщины, размытые черты скул, подбородка, глаза ржавого цвета признавались этому миру в увядании, в скором и добровольном конце. Женщина была с меня ростом; выйдя из шатра, она выпрямилась, и мы встретились взглядами. В глубине оранжево-карей ржавчины чернел потухший уголь зрачков.
— Если увижу! — зычно прокричал голос из утробы шатра. — То передам, будь спокойна!
Голова под черной шапкой смиренно кивнула. Женщина смотрела на меня. Не изучала, не пыталась понять кто перед ней, просто смотрела насквозь.
— А вы… — произнесла она голосом призрака — тихим, бестелесным, пугающим необъяснимой тревогой. — Его видели?..
Она обращалась ко мне и ко всему Петербургу. Так тень задает вопрос погасшему солнцу.
— Кого?
Серая ткань шарфа слабо пахла жасмином. Нос, тонкий, с горбинкой, напряженно дышал, и не дышал даже, а выискивал в вечернем воздухе только ему одному известные запахи. Ржавчина в радужке рассыпалась тонкой стружкой, запестрела, целясь в зрачки.
— Моего мужа…
Отпрянул от нее как от чумной. Провалился в полумрак шатра, сбитый с толку словами женщины и густым запахом заветренного мяса. Свет с улицы пропал, пропал аромат жасмина, исчезло просящее лицо. Почувствовал насмешливый взгляд.
— Привет-привет. Надо чего? Поздновато, все разобрали хорошее. Печень вот свиная, немного куриных крыльев. Ну и макарошки с гречей, само собой. Фруктов нет, и не будет.
Разобрал в тени прилавка продавца в грязном фартуке поверх черного ватника. Седая щетина липкой лентой влепилась в подбородок и щеки, разукрашивая собой желтую прокуренную кожу. Неясного цвета волосы обрамляли по краям черепа широкую плешь.
— Это… кто?
Продавец был мне знаком; точнее, знакомым был его образ, ни имени, ни его самого лично я то ли не знал, то ли не помнил. А вот он, видимо, знал и помнил меня превосходно.
— Ты про тетку? Маринка же, не признал? Ну да, ты женатый, тебе ее знать-признавать и не надо.
Он еще раз хмыкнул, сально осклабившись.
— Как супруга-то?
Вонь забила ноздри. Тусклое освещение точно вращалось вокруг каждого из нас, норовило сбить с толку, заменить собой равновесие.
— А кого она ищет? — спросил я, игнорируя вопрос продавца. Он пожал покатыми плечами, лениво переставляя перед собой с места на место алюминиевые банки с синим рисунком.
— Мужа, который не муж. Брать чего будешь? Закрываемся скоро. Сгущенку бери. Консерва военная, ничего ей не сделалось за пять лет. Углеводы, для мозга полезно, сам с чаем полбанки сожрал и решил все кроссворды. Ну что?
Я подошел ближе к прилавку. Лицо над фартуком расплылось в розово-желтой улыбке. Невообразимо пахло гнилью и плесенью.
— Ну давай парочку. И крупу, рис или гречу. И хлеб.
— Сейчас исполним, — кивнул продавец, исчезая в тени. Под стеклом холодильника прямо передо мной унылой кучей отбросов бледнели мясные ошметки.
— А что-то еще есть кроме этого?
— Тушеночка, только дорого и две в одни руки, — продавец проявился на тусклом свету, сжимая в руках разноцветные пачки. — Возьмешь?
Он назвал сумму.
— Действительно дорого.
— Хочешь мясца подешевле — это к Маринке, — ухмыльнулся плешивый, ставя пачки на прилавок перед собой.
— Возьму две. А что за муж у нее?
— Ты как маленький, ну ей-богу. Муж с нее купоны стрижет. Так и живут ребята, Димон и Маринка, обычное дело. Пакет?
Мелькнул белый полиэтилен. Я кивнул, наблюдая, как в его утробу устремились четыре консервы, краюха ржаного хлеба и три пачки с разными крупами.
— Курева?
— Нет.
— Выпить чего?
Сощурился. Образ человека передо мной затрясся, сузился в щелочках глаз.
— Вино если есть, возьму.
— Виинооо, — протянул он. — Где ж его сыщешь? Ликерчик вот сладенький есть. Со вкусом яблочной мармеладки. М?
Обреченно кивнул. Плешивый радостно почесал щетину желтой пятерней, вышел в подсобку, крикнул:
— Портвейн обнаружился! Тауни три топора… не разобрать, зараза. Надо? И мармеладку!
— Давай.
Он вернулся, прижимая к груди две темно-зеленых бутылки. Засунул их в шуршащий пакет, объявил цену покупок. Отсчитав нужное количество, я передал продавцу деньги.
— Спасибо. Так и что — куда Димон подевался?
Продавец уставился на меня бесцветными глазами. Спрятал деньги в карман фартука.
— Своей мало? На кой ляд тебе этот Димон?
— Да я просто так спросил, — бесстрастно произнес я, ухватываясь половчее за белые ручки пакета.
— А ты это, — вкрадчиво сказал плешивый, отступая в тень к стене. — Твоя-то…
Слова застыли в вонючем теплом воздухе. Громко провалилась слюна прямиком в глотку хозяина шатра. Я молча направился к выходу.
— Так и я просто так спросил, без обид, земеля! Заходи, найдем чего-нибудь вкусного, халву обещали на той неделе булгарскую…
Вышел под яркий свет огоньков, хватанул морозного воздуха полной грудью. Кончики пальцев дрожали; свисающий к заснеженной земле белый пакет трясся как от ветра, вертелся юлой, заставляя глухо звенеть бутылки. Нанизанные на провод огни вели к окраине рынка. В тишине совсем рядом послышался слабый просящий голос. Плюнул под ноги и пошел в его сторону. Небо над рынком затягивало матово-черным. Между палатками показалась укутанная в парку худая фигура: она куда-то брела, спрашивая в пустоту один и тот же тихий вопрос:
— Вы не видели… моего… мужа?..
Нагнал ее и как можно мягче позвал по имени:
— Марина…
Уголь зрачков женщины вспыхнул каленой ржавчиной.
Она привела меня в убогий гадюшник под названием «Барышня» неподалеку от рынка. Я знавал его еще со времен Карантина: здесь наливали самое дешевое пойло в округе; и сейчас замызганный тесный полуподвал был забит битком местными; прямоугольник зала разрывался от гудящей какофонии довоенных хитов. На Марину сразу уставился целый взвод пьяных глаз. Сердце мое болезненно дернулось, попыталось было остановиться, но разум приказал прекратить панику, бесстрастно напомнив, кто моя спутница. Она уверенно шла к барной стойке сквозь пеструю публику, кивая некоторым на ходу, улыбаясь на сальные шутки и тихонько смеясь от похлопываний по спине или заду. Усевшись на табурет, хриплым, на удивление уверенным голосом заказала графинчик водочки, подмигнув поджарому вертлявому бармену. Расстегнула молнию на парке, выпуская в жаркий смрад тонкий аромат жасмина и рыхлую плоть серого шарфа, стянула с головы шапку: на плечи обрушились светлые кудри. Землянистого цвета кожа лица порозовела, собралась морщинками вокруг горбатого носа, превращая его в центр всего ее образа.
Сейчас это была совершенно другая женщина, совсем не та, что откликнулась каких-то десять минут назад на мой зов. Пустая оболочка, лишь издали напоминающая живого человека, заполнялась эмоциями, обрастала мясом с каждым новым взглядом, с каждым пошлым восклицанием в ее адрес. И только одно оставалось неизменным — ее скорбная, какая-то неестественная старость.
Марина налила до краев водки в запотевший стакан и, смотря прямо перед собой, выпила в несколько жадных глотков целиком. Ноздри расширились, втягивая дрожащую крепкую вонь табака, мужских грязных тел, сивухи и похоти. Морщины разгладились на миг и вновь собрались вокруг носа. Тип за стойкой одобрительно хмыкнул, подставляя второй стакан — видимо, для меня, — и отвернулся, теряя к нам интерес. Гудело вокруг, мужчины смеялись, отрыгивая излишки алкогольных паров, шумно пили. Кто-то еще пялился на Марину, маслянисто, влажно моргая, но большинство присутствующих уже вернулись к своим нехитрым делам. Громыхала отвратительная пародия на музыку.
— Расскажите про мужа, — попросил я, усаживаясь рядом с ней, придвигаясь ближе, отчетливо различая поры на коже ее лица, трещинки на пухлых губах, белесый пушок щек. — Как давно он пропал?
Взгляд карих глаз — наконец-то лишенных ржавчины — сфокусировался на мне. Я одобряюще кивнул, чуть улыбнулся.
— Так ведь… — с глупой интонацией сказала Марина, крепче сжимая пустой стакан узловатыми длинными пальцами. — Он мой муж…
— Я понимаю. Но вы его ищете. Что случилось?
— Ничего не случилось, — скривилась женщина. Я молча наблюдал, как она ухнула очередную порцию алкоголя. Вдруг схватила меня за руку, потянула к себе, дыша в лицо смесью сивухи с жасмином, заговорила сбивчиво, тихо:
— Я знаю, я знаю, он меня любит, он просто немного чудной, он с войны еще не вернулся, он видит всякое, и делает не так как надо, но любит, и другим любить дает, а проснулась, так его нет, проснулась — вот тут болит сильно, а его нет и нет!..
— Когда вы проснулись?
Женщина замерла, не отпуская руки. Кожа ее ладони была размякшей, будто ее долго держали в воде, теплой, странно приятной от чем-то вдруг вызванной меланхолии.
— Днем. Я долго сплю, помногу, с ночи если легла, то к обеду не жди, да если б обед был, я сплю, так и сплю, холодно и болит, а его нет. Вы его видели?
— Где у вас болит?
— Что? — Женщина тряхнула головой, словно просыпаясь, сбрасывая ладонь, вновь хватая за прозрачные грани стакан.
— Где болит? К врачу вы ходили?
Полные губы разъехались в сторону, обнажая на удивление крепкие зубы цвета слоновьей кости.
— Врач у нас часто бывает, врач хороший, а муж ругает, говорит непутевая, говорит, врач это дорого, лучше б я пустой была как все, а я, вишь, как птица в окно залетаю.
— Птица в окно?
— Это он так обо мне придумал, потому что…
Я вжал пальцы в ее влажные губы, понимая внезапно, что именно она хочет сказать. Ладонь обдало теплом. Свободной рукой быстро и рвано опрокинул в пустой стакан водку.
— Выпьем! — нелепо воскликнул я, отнимая ото рта руку, взглядом приглашая налить еще из графина. По лицу Марины гуляла улыбка, зал со всеми его обитателями завалился вбок: я выплеснул в себя вонючую горечь, крепко сомкнул веки. На мгновенье перед глазами мелькнуло что-то совсем страшное, рвущее душу на части.
— Много нельзя, литр в самый раз, врач говорит водой разбавлять если невмоготу, а муж говорит дорого, говорит, чтоб так терпела, что они пьяную бабу не любят, да я и сама знаю, они рожу воротят, а мне что — лежи или колени сбивай, дурное дело нехитрое…
Ее голос тонул в громкой музыке. Дико хотелось на воздух. В голове пульсировала одна назойливая нота. От нахлынувшего необъяснимого чувства я желал разорвать эту женщину в кровавые ошметки голыми руками. Но лишь открыл веки и увидел горбатый нос в окружении морщин. И ржавчину, проевшую глазные яблоки насквозь.
— Его Дмитрий зовут? Дима?
Слова произнес с трудом. По небу растекалась бензиновая желчь, сгребла изнутри горло жгучая смесь полыни и гнили. Пальцы мои стали выстукивать дробь по стойке в такт гулкого ритма.
— Да, да! — оживилась Марина, щурясь от мелькнувшего в стакане блика. — Димочка мой! Малыш, кровиночка, врач говорил, что не надо, что слабый родился, а я ведь что? — я ведь могу, а другие не могут, я захочу и еще нарожаю, да муж не велит, говорит это дорого, и чтоб как его никого больше не называла, именем дорожит; жадина!
Поперхнулся, сдвинулся с места на табурете. Она, понятное дело, сошла с ума, давно не в себе, но осознать это, принять как данность было чертовски трудно, практически невозможно. От ее слов хотелось завыть. От глаз, смотрящих в упор — обнять. Сдавить тонкую шею. Прекратить все страдания.
— А дорого потому, — продолжала Марина, — что я старая, а ему нужна новая, помоложе. Он каждый день за новой ходил, да их уже в городе нет давно. Я ему дочь родить предлагала, а он злился, ругал почем зря. Одну, говорит, бабу терплю, а двух не вынесу, тебя выкину, говорит, как новую раздобуду. Меня-то он любит, а баб на дух не переносит…
Я с силой потер большими пальцами виски. Собрался было встать с табурета, чтобы исчезнуть отсюда сейчас же, немедленно! — но над ухом раздался вдруг визгливый требовательный голос:
— А ты чо это?! Димон в курсах шо ты Машку поишь?! Але, епта, мажор! Те грю, слышь, ы!
Подошвы коснулись загаженного липкого пола; ничего не разбирая перед собой, видя лишь белое пятно пакета, я пошатнулся, хватая ртом смрад гадюшника. Кто-то легкий и пьяный вцепился в плечо — и задышал мне в лицо горячей кислятиной.
— Это разные имена, — тихо сказал я и стряхнул с себя вниз любознательного забулдыгу. Реальность вернулась, резкая, четкая. Вокруг все так же угрюмо пили мужчины, все так же гремела музыка, никому не было до нас дела, и только поджарый бармен смотрел на меня, осуждающе хмурясь. Я извлек пару банкнот из кармана, впечатал их ладонью в стойку.
— За водку. Ты все сам видел.
— Видел, — ухмыльнулся бармен, сграбастывая деньги узкой ладонью, передвигая их к женщине. — Это тебе. Ты бы шла уже домой. Найдется твой ненаглядный, такое не тонет…
— Знаешь его? Ее мужа или кто он там ей…
— Тебе-то зачем?
— Личное, — скривился, буравя упрямым взглядом острые скулы бармена, тонкий рот, короткий ежик почти квадратной головы. — Как он выглядит, как одевается обычно?
Парень за стойкой фыркнул, скрестил длинные руки на неожиданно широкой груди.
— Типа вендетта у вас? Мне насрать. Пучеглазый такой ублюдок, гоняет в темном пальто — вроде вот твоего, только типа военного кроя. Да он сам скоро за ней придет, чего бегать. Водочку попей; у нас караоке скоро, конкурсы…
Сомкнув зубы до скрипа, я развернулся на месте, краем зрения различая на полу упорно ползущего к нам доходягу. Он что-то бурчал, никем не видимый, кроме меня. Будто в тумане наполнил наполовину стакан водкой. Не ощущая вкуса, выпил залпом и в последний раз посмотрел на Марину: она вновь стала походить на старуху. Жгучая жидкость упала на дно желудка, и вдруг я увидел, какой красивой когда-то была эта женщина. От невыносимой тоски сжало горло.
6
Несколько раз стошнило. В снегу остались теплые ошметки рвоты; бесцветная густая ярость и полынная горечь смешались во мне, и здесь, на темной улице, не смогли более оставаться в трясущемся от озноба теле. С губ стекала отвратительная струйка, пачкая собой ворот пальто. Со стороны я походил на обычного пьянчужку, прикорнувшего у высокого сугроба; только слишком уж эстетски одетого для здешних мест, слишком уж изящно блюющего, такого себе сноба из Нового Города, на кой-то черт притащивший свою холеную задницу на северные окраины старого Петербурга. Какая ирония: кровью и плотью, мыслями, памятью я был и оставался местным, рожденным, выросшим и сошедшим с ума именно здесь. Никогда не противопоставляя себя жителям этих домов, всей этой человеческой свалке, никогда я и не ассоциировал себя с ними, не чувствовал ни похожести, ни общих точек соприкосновения. Теперь родная земля мстила мне, заставляя пред нею сгибаться, увлажняя соками тела морозную бесплодную гниль.
Разогнулся, отер рот ладонью. Темная глубокая ночь; или утро уже, укутанное в снежную пелену, тихое и безлюдно-пугающее. Сколько вообще прошло времени? Несколько дней? Пару часов? Прошло времени — после чего?..
Звякнула бутылка о банку в пакете. И больше в стылом воздухе ничего — только мое дыхание. Нужно вернуться домой. Мы ведь сможем понять, что нам делать, ведь сможем? Если мы дадим знак, зажжем в окне свет, оставим открытыми двери, напишем письмо или вдруг позвоним — куда-нибудь, хоть куда-то! — мы ведь сможем вернуться в невинность? Нам так нужно вернуться, София!..
На лестнице, между шестым и седьмым этажами, стошнило еще раз: сильно, с резью в желудке; из горла вырвался стон. Рвало пустотой. Сворачивало наизнанку, встряхивало и с насмешкой заставляло глотать воздух над серой ступенью. Голову трясло на вздувшейся шее, и я понял вдруг, как одолеть тошнотворную боль.
Пламя застыло в воздухе желто-оранжевой перевернутой каплей. Из двух зол выбрал то, что краснее и слаще: вот оно, вбирает в себя огонек, растворяет его в темно-багровом стакане. Завтра — или когда я смогу очнуться — будет расплата; но не покаяние. Не победить, но возглавить. Сейчас моя телесная боль есть глупая необходимость притупить боль настоящую.
На столе лист бумаги, в руке карандаш. Во рту от щеки к щеке по языку катается терпкая сладкая жидкость. Не спешу проглатывать порцию; бутылка у стены на четверть пуста и в голове муть, тянущая, анестезирующая, жуткая. Рядом с бумагой надкусанный кусок хлеба. Стол усеян крошками, бумага — мелкими буквами. Прищурился, проглотил портвейн и вновь прочитал вслух написанное, комментируя глухо и сдавленно:
— Давид… застрелен гиноидом, копией своей сестры. Причина — скорее всего, очевидно… мои мысли. Анна, гиноид… самоубийство… Самоубийство консервной банки, прекрасно, причина… смотреть выше. Собака…
Выдохнул. Пламя чуть шевельнулось, искажая тень на стене.
— Николас: выдавлены глаза… Жив или при смерти в каком-то ужасном месте… Причина: нападение куклы. Причина причины — возможно, скорее всего…
Отхлебнул из стакана, отправил в глотку порцию суррогата. Потерял на мгновенье нужную строчку.
— …мои… слова. Мое желание. Нежелание. Черт.
Сжал в пальцах карандаш, занося над листом. Замер. Принялся читать дальше.
— Некто Дмитрий. Рана, несовместимая с подобием жизни…
Сквозь губы вырвался горячий воздух, диафрагма вытолкнула в этот мир порцию этиловой отрыжки.
— Нанесена зубами… челюстью… Твою мать.
Ткнул карандашом куда-то в угол испещренной текстом бумаги, обламывая и кроша серый кончик стержня. Глотнул из стакана, откусил от безвкусного хлеба.
— Хлеб и вино…
Прожевал мякиш, смешивая в размокшую субстанцию тесто и сладкую жидкость. Проглотил. Улыбнулся, уставившись в стену. Там колыхалась тень.
— И Глеба — вина, — протянул я, скалясь неясному темному очертанию. — А она откусила ему начисто хер. Зарезала.
Захотелось вдруг посмотреть влево, в темноту коридора. Но мышцы шеи впились в позвонки, переплетенные жилами, застыли. Голова дернулась нелепой игрушкой.
— Кто из них? По какой же причине? Мои слова, очевидно… Ее желание, может быть… Гнев. Ярость. Страх?
Все-таки удалось — я повернул голову, увидел черный угол.
— Подчинение… Силой… Приказами… Злостью?
Вжимая в бумагу графитовый стержень, вписал слово: «Злость».
…Если подумаю, сможет она…
Вскочил с места. Опустил взгляд, целя куда-то себе под ноги, пронизывая бетонные плиты мыслью. Всего пару выстуженных этажей, ну же, давай, отзовись, ответь, ну же, тварь! Подтверди мое сумасшествие, отправь ко мне этих бесов, рявкни уже, наконец: «Да, это ты!!!»…
Ничего не случилось. Только лишь дико, безумно билось сердце в груди. Тогда я схватил со стола исписанный лист и поднес острым углом к пламени. Тут же вспыхнуло; буквы обваливались целыми строчками, перемешиваясь с хлебными крошками, с мутными красными каплями. Яркий огонь лизнул ногти, но пальцы я не разжал. Края пластин покрылись тоненькой гарью.
— Причина: трусость. Приговор: одиночество…
Взмахнул хлестко ладонью; пепел развеялся; прах опал на пол у ног. Сжал фитилек, погружая кухню во мрак. Повел плечами от промозглой, внезапно нахлынувшей стужи. Объял черное ничего, и вдруг осознал слабое свечение месяца за окном: в беге ночных облаков промелькнул серебряный серп, будто подавая мне знак; придуманный мною же для себя снисходительный самообман, равнодушное небесное тело. Короткой секунды хватило разглядеть очертание церкви. Крест на куполе вспарывал ночь, а ночь вспарывала до изнанки меня.
— Это все ты. И она поняла, и этот огромный ублюдок…
Шумно рухнул на табурет. Тряхнул головой. Тяжелую гирю поместили в мой череп — тело накренилось вперед, подбородок ударился о столешницу, зубы прикусили неповоротливый распухший язык. Разум гладила серая муть.
— Больше и некому, — прошептал я.
Проснулся; ничего не было: ни сожаления, ни раскаяния и ни боли. Пустота, свобода от любого из чувств — словно заново собранный механизм. Оторвал голову от стола, погрузил сознание в новый день, макнул с разбега зрение в солнечный свет. Проснулся, и через секунду огромный мир обрушился снова, не позволяя понять свободу, ухватиться за блаженство небытия. Все закружилось, взорвалось изнутри и снаружи. Тело рухнуло на пол и скрючилось. Ногти вонзились в линолеум, лоб повело в стороны, щеки и нос собирали прозрачную пыль, а изо рта кто-то толкал звук за звуком порции горького воздуха.
Расплата, к которой готовился с вчера, оказалась куда суровее, чем было готово выдержать тело.
Это длилось семь или восемь минут. Казнь, наказание, вбивание в глупую голову непреложных истин — заново, еще и еще раз, через каждую пору на коже. Это была уже и не боль — это было кристаллизованное откровение, и оно сложилось вдруг в образ старика и старухи: родителей Софии.
Лихорадило. Кончики пальцев все еще скользили по полу, но слабее, утихомириваясь. Загривок горел, по шее тек пот. Слизь застыла на нёбе, источая невыносимую вонь. Шевельнулся — осознанно, силясь подняться. Забытые цифры пытались выстроиться в ряд в трясущейся памяти.
Нужно попробовать. Это надо было сделать сразу, пустая моя голова! Если подняться, выпить стакан воды…
Пепел, хлебные крошки. Бутылка, наполовину наполнена бурым; солнце пронзало стекло, превращая вино в яркую сочную кровь. Выдохнул, отворачиваясь. Наконец встал, опершись о стол. Вокруг дрожащая в утреннем свете кухня. Налил из-под крана теплой воды, медленно выпил. Мельком взглянул за окно: снаружи синело пронзительно чистое небо. Солнца не было видно, но свет его заливал сейчас весь гребаный мир, заливал и не грел, как в насмешку окутывая бесполезным космическим излучением. Зима едва-едва начиналась: белая, стылая, беспощадная. Покачиваясь, обстоятельно совершая шаги, добрел до телефона и набрал длинный междугородний номер. Долго и назойливо звенела тишина, но вот что-то сухо щелкнуло и раздались гудки.
…Когда-то давно, когда я только взял в руки гитару и ни черта не знал о музыке, я настраивал инструмент по звуку телефонного гудка. По одной байке, гудок этот являлся ничем иным, как нотой ля первой октавы; кто-то утверждал, что это скорее соль диез…
Теперь эта нота въедалась в висок болезненным тонким писком. На той стороне молчали. Прошла минута, другая. Ничего, только чертова ля первой октавы.
Врубил ледяную воду и засунул под струю лохматую грязную голову. Держал до тех пор, пока кожа не потеряла чувствительность, пока от холода не стало сводить шею и скулы. Мир, загнанный сейчас в темное днище ванны, перестал лихорадочно дергаться, дрожать из стороны в сторону. Перекрыл дикий поток, вытерся полотенцем, с остервенением принялся чистить зубы. В голове прояснялось. Ударила тоскливая мысль: ничего не происходит! Я по-прежнему ни черта не понимаю, и я по-прежнему в центре какой-то огромной воронки — слепой, оглушенный, тупее пробки, будто живой мертвец, способный только жалобно выть в темноте. Точно пятно на чьем-то грязном теле: складки кожи движутся, и я вместе с ними, тело потеет, и меня заливает омерзительным потом, и вот тело моют — и я пропадаю, исчезаю в трубе водостока. Пятну незачем что-либо знать: оно случайность, досадное недоразумение, грязь.
…Смыть и забыть.
Но я не мог смыть себя. Я был пятном на собственном теле. Навязчивым жирным штрихом, трясущимся от каждого шага, жаждущим заполнить собой все, изъесть эту плоть. Все, на что я оказался способен, это просто сесть в уголок и ждать неизвестно чего, смотреть, как за окном медленно ползет солнце, дышать пыльным воздухом в одиночестве. Да, так просто, легко впасть в отчаяние, пить стакан за стаканом муть суррогата; видимо, так было нужно, так это устроено почему-то…
Взглянул в зеркало. На меня смотрело подобие человека, тварь. В глазах этой твари тускло и еле-еле трепетало отчаяние.
Я чертил схему — точнее, пытался наглядно связать все то, что хоть как-то могло мне помочь. На листе бумаги в клеточку переплелись события, факты и имена. В центре, обведенным косым овалом, набухло короткое емкое «МЫ». От овала отходили лучи к кривым пузырям, то соединяясь между собой, то обрываясь или пересекаясь с другими.
Получилось вот что:
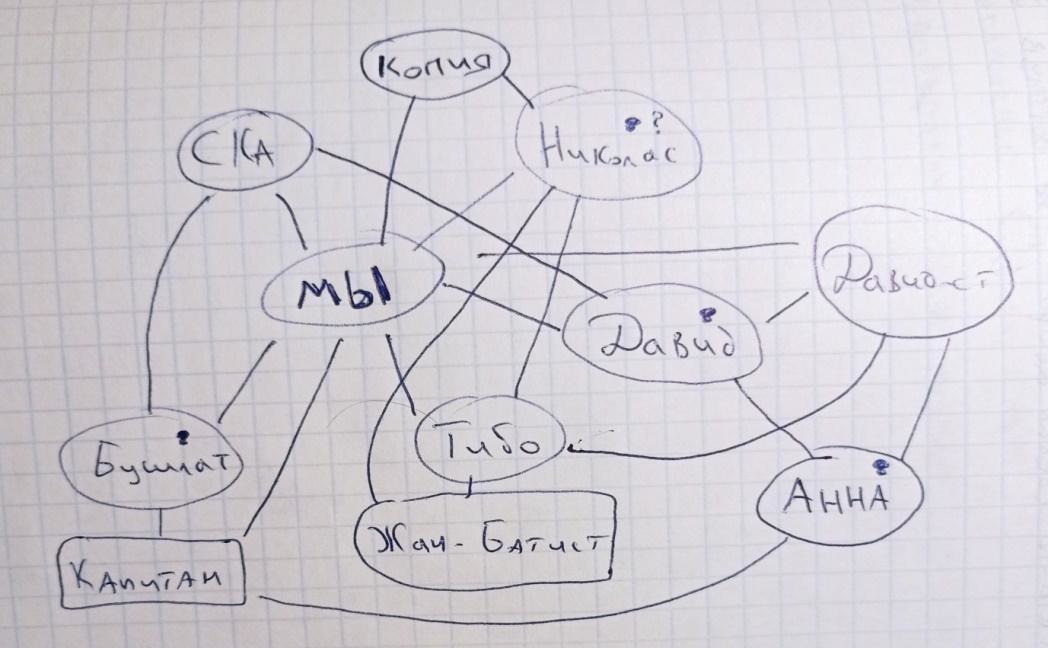
У четырех имен чернели похожие на замочные скважины черепки. У одного из них стоял знак вопроса. Вся эта чушь на бумаге меньше всего походила на помощь. Я не мог понять, стоит ли связывать «Ска» с «Копией» (ведь он знает о ней), и «Жана-Батиста» с «Анной». Не нашлось места отцу Василию и Марине, следователю по особым делам и Константину с его бандой. Все, что я мог понять, это то, что мы действительно были в центре всего. На нас замыкались все линии кроме «Анны»; ее я вывел в связку с «Давидом». Больше всего пересечений, напрямую или через другие круги, имел круг Елагина. Подумав, я свел линией «Ска» и «Капитана».
Посмотрел еще раз на схему и тоскливо вздохнул. Разделил нехотя «МЫ» на «Я» и «София», добавил прямоугольник с надписью «Ecce Homo». В этот раз больше всего пересечений имело облачко с надписью «Я». Пространно хмыкнув, тут же выкинул этот факт из головы и с готовностью сосредоточился вновь на «Елагине».
Что мне про него известно? Ветеран Войны, телохранитель и казначей Давида Филина-младшего. Назначен козлом отпущения, но бежал из-под следствия. Каким-то звериным чутьем заподозрил меня в невозможном…
На бумаге пестрел бессмысленный хаос:
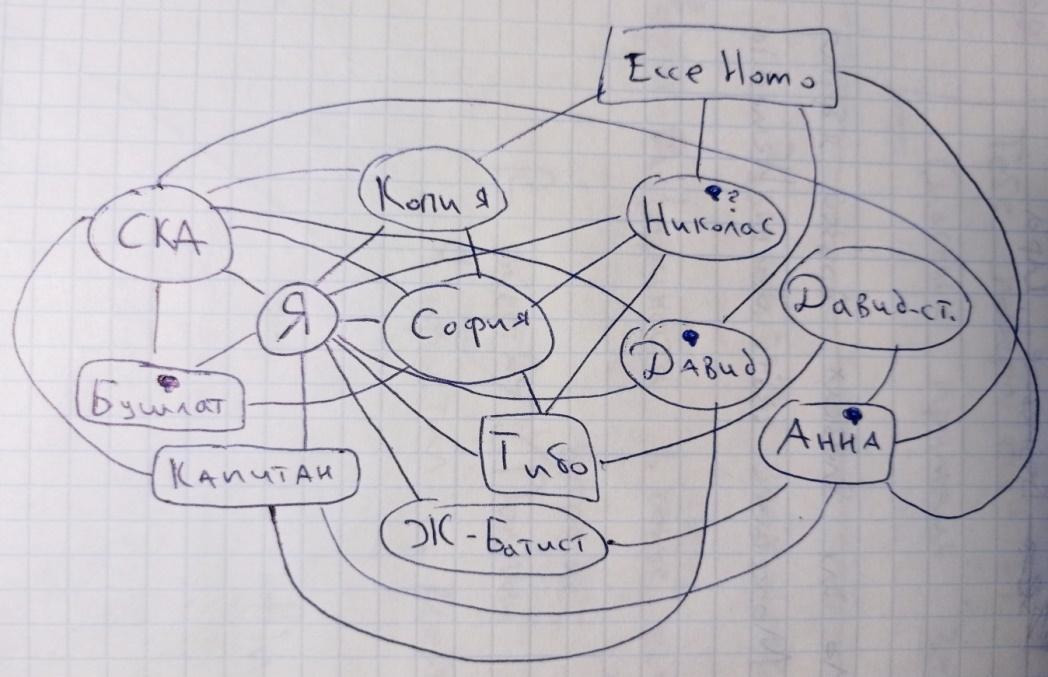
«…Это хаос — первоначальное состояние твоего личного Космоса до сотворения осознанного мира вокруг тебя. Из хаоса возникла Земля и Любовь на Земле. Любовь у тебя есть. Но обрел ли ты свою землю? Может, ты творишь реверсивно? Идешь в обратную от всех сторону в открытый космос…»
Завис над столом. Что толку марать бумагу, насиловать истощенный разум и травить тело? Вот я сижу на долбанной кухне, и солнечный свет слепит глаза, ну и что? Встань и иди, ну давай же, какая разница — почему и зачем? Встань и иди, верни свою женщину, верни смысл жизни, господи, верни хотя бы кольцо, украденное нелепым бродягой!..
Встать и идти? КУДА?! КАК?!
— Боже!!!
Рявкнул от бессилия, от бессмыслицы. Смял чертовы схемы, с ненавистью изорвал в клочья, бросил на стол обрывки. Почувствовал дикую жажду. Почувствовал истерический смех, рвущийся из нутра. Захрипел вслух:
— И это все, что я могу?! Прыгать по кухне, рисуя картинки?! Пить, шляться по кладбищу, ныть?! Проникаться до тошноты судьбами шлюх?! Да пошло оно все!
С размаха впечатал кулак в стену, и вдруг услышал звонкий далекий стук. Не чувствуя боли в фалангах, замер, прислушиваясь. Стучали в трубу отопления, в батарею. Так подают сигнал: старинный метод из детства. Ударило пару раз, и все тут же смолкло. Стряхнув оцепенение, я бросился в коридор, сунул в ботинки голые ступни, накинул пальто и, распахнув дверь, вывалился на лестничную площадку.
— Эй! Ты где?..
Хотелось разорваться на две половины и кинуться сразу и вверх, и вниз. До неба было пять этажей, до земли ровно двадцать; я выбрал верх. Задрав голову, словно обретя способность видеть сквозь бетонные плиты, я надрывал глотку, посылая в пролеты хриплые междометия, быстро ступая по лестнице:
— Эй! Ну! Вот же черт!
Я будто и вправду искал настоящего черта.
Замолчал; боялся пропустить новый сигнал. Запертые квартиры, пыльные загаженные площадки, ничего: наверху все давно было вымершим. Тогда я стал спускаться обратно, и вдруг замер на месте: кто-то царапал металл чем-то острым. Тихо миновал нашу квартиру, спустился на девятнадцатый. Звук исходил снизу.
— Шутишь?..
Сто тридцать девятая, ну, конечно. Чем ближе я спускался к квартире, тем отчетливей был слышен звук.
…Что она там творит?
Не с первого раза попал ключом в замочную скважину. Медленно потянул на себя дверь, и тут же увидел Софию: одетую, улыбающуюся…
Она стояла сразу за дверью, подняв руку, и пальцы сжимали здоровенный длиннющий гвоздь. Острие его целило прямиком в мой лоб.
— Где ты это взяла?! — просипел, отступая от дверного проема, ощущая перила спиной. — Ты что задумала?!
Хватанул ртом сухой воздух, не сводя глаз с зажатого в тонкой руке гвоздя.
— Брось! Разожми пальцы! — выдавил я, с трудом подбирая слова, боясь сказать что-то не то, боясь говорить что-либо вообще. София ослабила хватку, и тонкий предмет скользнул на бетон, звякнул. Вымазанная черным улыбка сводила с ума.
— Сядь в кресло. Пожалуйста, будь же умницей…
София развернулась, исчезла в тени. Отлепился от лестницы, осторожно вошел в квартиру. Поднял гвоздь у порога, спрятал аккуратно в карман пальто, запер дверь на засов. Черт нашелся.
Здесь все по-прежнему. Также промозгло и пусто — только одинокое горчичное кресло, в нем фигура. Плед обвис под тяжестью инея.
— Ты стучала?
Под окном белел четырехсекционный радиатор, пустой, давно выстуженный. Ближе к подоконнику можно было различить сколотую краску, глубокие размашистые царапины.
— Да.
Я не мог смотреть на нее. Слушать мог с трудом, но мне нужны были ее ответы. Уставился в окно: небо заполнялось сизой дымкой — должно быть, скоро пойдет снег. Поморщился.
— Для чего?
— Анализ эмоционального спектра показывает, что была испытана базальная тревога.
Отлепил взгляд от неба, посмотрел на укутанную в пуховик цвета хаки Софию: она широко улыбалась.
…Не София, придурок, она не София, твою мать, не СОФИЯ, заруби себе на носу, идиот!!!
Застонал, закивал, соглашаясь с чем-то, пытаясь утихомирить невидимого оппонента.
— Какая еще тревога?
— Тревога, вызванная чувством изолированности, беспомощности. Страх к потенциально опасному внешнему миру, переросший в акт агрессии.
— Тебе тут одиноко вдруг стало? — ухмыльнулся я.
Она моргнула. Улыбнулась еще шире.
— Речь идет о тебе.
Изменился в лице. Ноги как будто бы подкосились.
— Что?..
— Моя система ретранслировала когнитивную аберрацию в твоем поведении…
— Ты где гвоздь взяла? — глухо спросил я, шаря взглядом по черным линиям кирпичей белой стены. Мне ставят диагнозы консервные банки, господи, до чего же я докатился, отлично, прекрасно, но какого черта это вообще возможно?!
— На полу в этом помещении.
Она глянула куда-то мне за спину. Я кивнул, гукнул что-то невразумительное, замер, не зная, что ей еще сказать, не понимая, чего от нее хочу.
— Как… как ты…
Сжал крепко губы, выдохнул через нос.
— Почему подчиняешься мне? Почему делаешь все, что я говорю? Ведь я тебе не хозяин!
— Протокол расширенных прав нарушен. Основной Пользователь не найден. Запрос некорректен.
Врешь, суккуб металлический, ты сама его себе еще как нашла, тварь!..
— Почему подчинилась приказам…
Поперхнулся слюной, ища подходящее слово.
— …приказам насильника…
— Не понимаю твой запрос. Попробуй использовать другую формулировку.
— Человек, которому ты откусила детородный орган, — меня чуть потряхивало от слов; все происходящее казалось дешевым фильмом категории «Б» с тупым сюжетом, с ублюдскими диалогами; отборнейшим трэшем. — Почему ты встала перед ним на колени, рот открыла, почему ублажала его?!
Рот, которым она ублажала его, зашевелился:
— Это моя основная функция.
Не понимая, что и кому говорю, выплюнул остервенело:
— Ты не можешь трахаться с кем попало, грязная сучка! Ты моя, поняла, ты только моя!..
Осекся, заткнулся, растопырил ладони, врезаясь в кирпичную стену, будто распятый на острых изломах. Сквозь мутный гудящий звон в ушах различил голос:
— Журнал истории действий и изменений показывает, что обсуждаемый запрос содержал частотный импульс, совпадающий на восемьдесят шесть целых и одну десятую процентов с ключевым.
— Что это значит? — прохрипел я, порождая вдруг слишком быстро безумную мысль: сила похоти ублюдка в бушлате примерно равна моей страсти к Софии, мы с ним единой природы на восемьдесят шесть…
…Опустился на корточки…
…и одну десятую сраного процента!
Затошнило от смеха. Лоб уткнулся в колени, в пол ударил каскад хохота. Обхватив лохматую голову, я смеялся, отчаянно срывая в кровь глотку.
— А тринадцать и девять оставшихся?!
Встал, вскочил. Оказался рядом с Софией, обхватил ее плечи, тряхнул, прошептал, вжимаясь в мертвую плоть:
— Это и есть наша любовь?! Тринадцать и девять?! Так мало!.. Почему же так мало?!
Я хотел объяснений. Я требовал гребаных объяснений! Я заорал прямо в лицо Софии:
— Это и есть наша жизнь, эти чертовы цифры?! Ты надо мною смеешься?!
Я не мог в это поверить. Не мог осознать, во что я не мог поверить. Я ничего не понимал. Податливая кукла тряслась в моих руках. Прекрасный облик трещал по швам от тоски.
— Что, тебе не смешно, почему не смеешься, София?!
Она не смеялась, и смешно ей не было. Звуки смешались, забились о стенки черепа, взвыли. Бесы и демоны рухнули с потолка, закружили вокруг нас хоровод. И вновь затошнило от смеха.
7
…Можно ли удержать других от безумия, легко ли наблюдать, как сходит с ума человек? Я понимал четко, до зубовного скрежета — нет, нелегко и вряд ли возможно. Здесь нужно что-то сродни таланту. Нужен редкий дар человечности. Распавшаяся на куски личность есть личность потерянная, неинтересная, раздражающая и даже презренная. И не важно, в чем горе — душевнобольной оттолкнет от себя сам, осознав на мгновенье как жалок его затмившийся дух. Большая удача, если рядом найдется кто-то вроде святого.
Рядом со мной не было ни единой живой души.
Полный штиль. Не скрипели деревья, не закладывали виражи юркие шумные галки. С серого низкого неба сыпалась беленькая мука. Прождав битые полчаса электричку, проклиная МЖД и погоду, я пошел по широкой тропе, вытоптанной между сугробами вдоль железнодорожных путей. Ноги тяжело вбивали подошву в новый снег. Обернулся: здание вокзала из красного кирпича исчезло в белой стене — так рана затягивается под бинтом, — и только яркий пронзительный свет семафора подмигивал мне зеленым из шевелящейся мглы. Прошел участок старой колеи. Остовами древних животных сиротливо выстроились промерзшие товарные вагоны. Колея забирала вправо, вела в Коломяги. Вагоны тонули под снежными шапками. Я шел и шептал, бормотал вслух отрывисто бессвязные цифры:
— Тринадцать и девять, тринадцать ноль девять; что это значит, почему так; он бы смог, да, он объяснил бы мне все…
Прошел Озерки. Постоял короткие пятнадцать минут на платформе: вдруг меня все же настигнет опаздывающая электричка, да и перевести дух в такую погоду было нелишним. Вместо пальто я надел старую зимнюю куртку цвета асфальта после дождя; тепло она почти не держала, быстро пропитывалась влагой от тела, но зато не привлекала внимания — это было типичное облачение современного рабочего класса, чьим представителем я и сам некогда был и в какой-то степени оставался. Поезда куда-то пропали; то ли с этого направления, то ли вообще как вид транспорта. Плюнув с высоты запорошенной платформы, я последовал за собственным плевком, спрыгивая на пути, меняя маршрут. Проплутав по заросшим шиповником и калиной оврагам, я выбрался, наконец, на мерзлый асфальт где-то за Первым Суздальским озером. На том его берегу вросла в землю станция метрополитена. Оставалось взобраться на гребень Поклонной горы и буквально скатиться по ней к подножию густо заросшего сквера без имени, пройти его рощи, обрамляющие старые серые пятиэтажки, и выйти на финальную часть пути: хмурый и узенький Костромской проспект. Я медленно и упорно покорял некрутой со стороны Озерков подъем Поклонки, оставляя за спиной пласт нежилых кварталов. Поворот, широкая магистраль — здесь начинается Северный проспект, тянется вдоль Сосновки на долгие-долгие километры. Вот и вершина холма, резко, без предупреждения обрывающаяся; его дутый бок усеян огромными соснами. Темный проход: прямиком вниз, превращенный в ледяную гигантскую горку спуск, садись да езжай, только следи, чтоб голова не расплющилась от встречи с красными по весне кленами. Вдалеке — высотки в двадцать пять этажей; на солнце беспощадно сияют и слепят, сейчас же тоскливо взирают с вершины грязными панорамными окнами. Холм заливало яростным светом под щебет синичек и воробьев; но ни птиц и ни солнца будто бы не существовало сейчас.
Электричку до Нового Петербурга обещали подать через тридцать одну минуту — так гласило табло. По широкой ленте платформы растекалась людская масса. Удельная гудела, бурлила, жила насыщенно, тяжело. В ожидании электрички зашел в знакомое мне питейное заведение и заказал шаверму и кофе. В горячем лаваше скворчало куриное мясо вперемешку с томатами и огурцами, щедро залитое белым соусом; густо пахло чесноком и специями. Жирная пахучая жижа налипла на губы, потекла по щетине; я облизал рот, с блаженством втягивая смесь майонеза с кефиром. Запил еду горьким пережженным кофе; на минуту наступило примитивное счастье.
За широким от пола до потолка окном-витриной сновали люди. Конечно же, все они были мужчинами, почти стариками. С авоськами, сумками, рюкзаками и налегке. Иногда на транспортное кольцо неподалеку подъезжали микроавтобусы. Это не было альтернативой МЖД, это был единственный способ попасть отсюда в отдаленные районы вроде Комендантского аэродрома, Долгого озера и других. Людей там жило не много; автобусы отходили едва заполненные на четверть. Вот промелькнуло лицо старухи. Укутанная в длинный синий платок, сгорбленная фигура исчезла в пурге, не привлекая ничье внимание. Другое дело, если бы здесь объявилась молодая красивая женщина; да пусть даже и некрасивая; да и кто знает, что же это такое вообще — красота?..
Прожевал кусок мяса и мрачно оскалился. Тщательно провел языком по зубам, взял поднос с одноразовой посудой, отнес на раздачу, поблагодарил повара — угрюмого шатена за сорок — и направился к выходу. Снаружи гудело. Запахло людьми, зазвучало вокруг, завыло. Оглушающая масса подхватила меня, с равнодушием унося в сторону блошиного рынка. В этой старой потрепанной куртке я вдруг стал одним из них — крепко пахнущим мужиком, деловито несущимся по своим нехитрым делам среди себе подобных. Я и был бы одним из них, просто кто-то однажды открыл мне страшную тайну, приоткрыл тонкую занавесь, обнажая вдруг нечто, тут же забытое, но оставившее навсегда след. Я всегда знал чуточку больше, чем остальные; так мне казалось с самого детства, породив вначале гордыню, а позже — острое одиночество; отчаянно хотелось понять, знает ли тайну кто-то еще, но вместо ответа встречал лишь отпор, равнодушие. Им было всего достаточно, мне же хотелось чуточку больше.
Шевельнул плечом, направляя тело в горячий людской поток. Отстоял очередь и приобрел билет на все зоны. Билет действовал сорок восемь часов с момента покупки и стоил чертову кучу денег; пластиковый прямоугольник сулил ряд преимуществ: теперь я мог проехать насквозь Санкт-Петербург хоть до берега Ладоги и обратно сколько угодно раз. Вдохнул густо пахнущий человеческим потом воздух: пахло жизнью. Незапоминающиеся незнакомцы сновали взад и вперед, бубнили о чем-то своем, смеялись, угрюмо молчали, ждали. Это были те самые люди, что жили здесь до Войны, и во время Войны; но только теперь это были мужчины, десятки мужчин, только мужчины. Вдруг, под этой стеклянной крышей, я оказался в загоне с мужчинами. Простая мысль, удушающая и остро бьющая в подсознание: я — человек мужского пола, и вокруг были люди мужского пола; я искал женщину, и они тоже искали — так или иначе; я любил ту, что искал, а они…
Кто-то заехал локтем под ребро, зашипел что-то грубое, скрылся в толпе; и я понял: никого они, сука, не любят. Просто бьются лбами о лбы, о прозрачные стекла, жрут, срут и мрут, серые тени…
Сознание заволокло стыдливой яростью. С силой толкнул в спину кого-то перед собой, стараясь не сводить глаз с блестящей грязи на дверях вестибюля. Водоворот из мужских тел крутануло раз, и другой, выплевывая меня на заснеженный перрон. На шапку, лицо и плечи накинулась белая пыль. Кто-то посмотрел мне в лицо долгим взглядом, нахмурился. В беспокойной пурге выныривала и вновь пропадала перед толпой широкая полоса монорельса. Бесполый голос проорал что-то на всю округу, и перрон пришел в оживление.
Меня вжало в стенку тамбура, зашипели пневматикой створы, мир качнулся. Толпа растеклась по вагонам, облепила собой сиденья, проходы, но только лишь для того, чтобы через семь или восемь минут покинуть эту теплую, липкую утробу; большинству пассажиров ехать дальше Финляндского вокзала не требовалось. Кто-то, конечно, мог доехать до Ладожской и Оккервиля, но вряд ли хоть на одну остановку больше. Там, на краю Нового Петербурга, в вагоны зайдут совсем другие горожане, опрятные, не терпящие суеты при посадке и высадке, чуть рассеяно и приятно улыбающиеся самим себе и окружающим, и даже противоположного пола. Поезд понесет их к стеклянным башням, золотым полусферам, к подножьям стальных зиккуратов. Вспыхнут черные мониторы, защебечут приторно женщины. На Втором вокзале в состав запрыгнет бригада шустрых парней в желто-зеленых спецовках, и пока электричка будет идти до следующей остановки, они умело и быстро ликвидируют всякое свидетельство того, что несколько минут и километров назад здесь волновалась мужицкая масса. Из-под потолков брызнет струйка парфюма, а невидимые спикеры зальют монотонный стук колес симфониями Брамса и Шостаковича…
Усмехнулся под нос. Последние два пункта являлись сарказмом. Через одну остановку я выйду вместе с толпой, и единственное, что будет нас отличать, это вектор движения: люди двинутся на север и на восток, я же пойду прямиком на юг, через осточертевший мне Литейный мост.
От дыхания сотен глоток и моей собственной запотело стекло. Поезд плавно шел сквозь снег.
Сегодня был другой полицейский: пожилой мужчина, почти что старик; должно быть, старожил из числа местных. Моя фигура выплыла из белесой, косо валящейся с неба крупы, но старик в форме и не подумал выходить из теплой будки. Я махнул рукой и громко поздоровался.
— Здравствуйте! Все в порядке? Я пройду?
Полицейский медленно кивнул, прищурившись. Ритуал состоялся, и я скрылся в пурге.
Ни теней, ни силуэтов людей. Только рваная пелена снегопада, да не знающий жалости ветер. Куда ни глянь — белая стена. Изредка дрожит в бледном мареве штрих фонарного столба, корпус автомобиля. Вокруг с натугой гудит: прямиком у лица, где-то в колодцах дворов, сверху и позади. Глубокие следы тут же заметало снегом. Где я иду? Кажется, свернул с Литейного на Шпалерную. Если так, нужно добраться до усеянной розово-желтыми особняками Гагаринской улицы, взять правее в сторону Пестеля, ну а там…
Улыбнулся недобро. Розово-желтыми особняками… Да весь чертов город ими усеян! Сплюнул в сугроб, зашагал сквозь пелену белой крупы чуть быстрее. Впереди, у здания бывшей военной прокуратуры, чернел строительный мусор. Чуть поодаль пульсировал темно-синий прямоугольник огромного пухто. В нем кто-то деловито орудовал. Я перешел на другую сторону улицы, стараясь, чтобы мои ботинки как можно тише скрипели на свежевыпавшем снеге.
— Как думаешь, за эту херню сколько дадут на Сытном?
Голос был грубым, прокуренным. Ему ответили, но порыв ветра снес слова, бросил о стену, размозжил на глухие слоги и буквы. Из разверзнутого зева темной арки атонально взвизгнуло. Меня будто бы прогоняли отсюда; недобро накренилась улица, ощерилась клыками сосулек с ржавых крыш. Белая мгла хлестала по щекам, толкала и в спину, и в бока, и в живот. Кто-то сказал вдруг «Да они там зажрались!», и тут же голос снова увяз в крикливом холодном ветре. Впереди замаячили черные стены, и вспышкой яркого света засиял пролом в кирпичах, вылизанный жирными пятнами гари. Я оставил Шпалерную позади, свернул влево, и на какое-то время угодил в подобие вакуума. Не мог различить шаги и дыхание, ни воя ветра, совсем ничего. Казалось, снежинки застыли в воздухе, а тело мое вертелось вокруг собственной оси. Выставив руки перед собой, растопырил пальцы. За синей тканью перчаток качалась длинная пустая улица, кидая в лицо обжигающую крупу. Далеко впереди залаяла собака; странная контузия исчезла. Заставил себя вспомнить примерный план местности: нужно дойти до улицы Чайковского, и там через Соляной переулок рукой подать до Пантелеймоновского моста. Еще несколько кварталов, и Невский проспект.
Сморщился. Вгляделся в белесую, беспрестанно волнующуюся стену снега В последнее время я упорно посещаю одни и те же места, как преступник, которого непреодолимо тянет на место совершенного им когда-то преступления…
Выдохнул и стремительно зашагал прочь.
— Цвет: терракотовый? Никак не могу понять…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
